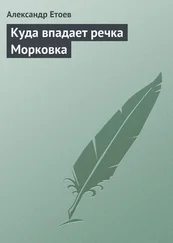Нет, Дед Етой, не надо, –
сказали ему враги, –
встань хоть передом-задом
Америке вопреки.
Встань хоть с левой,
хоть с правой,
покажь нам хоть всей оравой
жесть азиатских скул
с дьявольскою приправой –
это же всё «олд скул»
с бабушкой-королевой,
с той, а хочешь – хоть с этой,
нас не проймёшь отравой,
встань хоть с правой, хоть с левой,
ляжь хоть с левой, хоть с правой.
Дед Етой, ты чего там?
Дай им в пень, обормотам.
Или ты что, заснул?
Дед Етой в полёт пустился,
вспомнил детскую мечту.
Налетался, приземлился
не туда и не на ту.
Место дикое. Пещеры
перед ним зияет вход,
ядовитый запах серы
из отверстия идёт.
Дед Етой, он не из робких,
вепс – воинственный и громкий,
существо – не вещество,
бесит эта вонь его.
А ещё во тьме пещеры
что-то тёмное лежит
и таинственно, таинственно,
таинственно, таинственно,
таинственно дрожит –
что-то вязкое, живое…
Дед качает головою
и кричит во тьму, кричит:
«Выходи-ка из коробки,
из пещеры то есть той,
тёмной ямы гробовой!»
А пещерный дух серди́тся:
«Ну нашёл, блин, чем гордиться,
перестань права качать.
Если биться, значит, биться,
что же в жопу-то кричать?»
Дед Етой стоит, не знает,
меч в руке его усох,
алкоголем разбавляет
он спито́й морковный сок.
Кхмер Пол Пот
пьёт компот.
Президент Бокасса
жрёт человечьи мяса.
Только скромный Дед Етой,
встав, как водится, не с той,
с-под-подушки личную
пьёт водочку «Столичную».
Выпил рюмочку и вот
вам привет передаёт.
Дед Етой как всегда встал не с той,
ну а толку-то – та ли, не та ли?
Вытер лоб, сунул ноги в сандали,
постучал об кулак головой.
Посмотрел на кота на кастрата,
Энди Уо́рхола, дегенерата,
чей портрет на обоях висел –
высох, выгорел и обрусел.
Выпил водки, вчерашней, остывшей,
из бутылки, забытой, но бывшей,
потянулся, зевнул, почесался,
клоп ленивый в лодыжку всосался.
Хлоп! – ударил: «Распо́лзался, тать!»
И в кровать завалился опять.
В чём мораль этой притчи простой?
Да всё в том же: Етой встал не с той.
Если правую наречь левою,
если левую наречь правою,
можно вспомнить сказку старую, древнюю,
ту, где ложь всегда венчается правдою –
а венец-то был из терна колючего,
из болотного хвоща из вонючего.
Дед Етой, который встал, весь искрюченный,
измочаленный, спитой, хнёй навьюченный,
вставши медленно, он правую левою
не нарёк и свой носок продырявленный
опустил вместе с ногой на пол плиточный,
как на крашеный на гроб на повапленный,
где внутри был морок паточный, пыточный,
тьмою тварною, библейскою явленный.
Он сказал: не изъязвлю ни полпятки я,
ни ступни, ни полступни, ни мизинца я.
Хоть потоп, хоть холокост, хоть распятие,
хоть какая, мать её, диспозиция.
Хоть сродни меня с красой-королевою,
хоть пихни меня в разборку кровавую,
не смогу наречь я правую левою,
не смогу наречь я левую правою.
«Икар и раки, раки и Икар…»
Дремало море в голубом тумане,
дремал Дедал, похрапывал, икал,
топил тоску зелёную в стакане.
«Икар и раки, раки и Икар…»
Что, Дед Етой, задумался? Не стоит.
Трясёт Дедал античной бородой,
и если кто сегодня встал не с той,
так это никого не беспокоит.
Лишённый разума, как мотылёк простой,
как рак-отшельник в вузовской столовой,
лежит на пляже мёртвый Дед Етой
и думает, сопя, о жизни новой:
что вот он встанет, с этой или с той –
не всё ль равно? – дотянется до пива,
и будет долго, трепетно, красиво
вливать его себе в живот пустой.
И думать, думать: «Надо бы мне, братцы,
хоть на недельку замариноваться.
А то скажи, чего я на пляжу
в постылых белых тапочках лежу?»
Прозрачных крыльев чаячьих разлёт
над золотым феодосийским пляжем,
Семирамиды виноградный мёд,
и сад расплылся облаком лебяжьим.
О Дед Етой, ты помнишь эти дни?
Не помнишь? Ключик вытащи заветный
и в дверце его дважды поверни,
и ход найди за дверцей незаметный.
Но Дед Етой гремит сковородой,
яичницу готовит на конфорке
из двух яиц, а ключик золотой
забытый им лежит на верхней полке.
Дед Етой роскошествует,
лежит на пляжу́
с мордою скукоженною.
Читать дальше