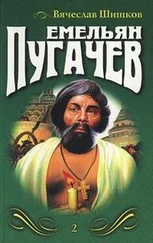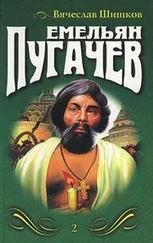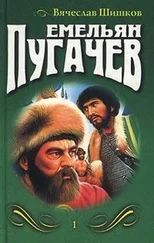Колючее зрелище странного толка.
Противные взору. Как два червеца.
Но всё же они – не детёныши волка,
а дети, подобия Бога-Отца…
Смертоносный
Как резвые струнки в худеющих жилах
и стружка в пылающей, горькой крови,
воткнулись в артерии грязные вилы,
что мигом рождается крик из молвы.
И в остове хилом идут перемены,
кипит их огнимо-бушующий рост.
Вращается в каждой болеющей вене
горячий, пушистый и погнутый трос.
Сгибает костисто-когтистая ноша,
забит под грудину карающий шпиль.
Истленье в глазах и броженье под кожей.
От верха и донизу буря и штиль.
Тревожат мерцания света, вечерья
и шорох остыло-кружащихся стен.
Полны сквозняками, безумьем, безверьем
все ниточки траурных, сжавшихся вен.
Болезнь проникает всё глубже и чётче,
вонзаясь в остатки живых ещё пор.
И росчерк врачебный становится жёстче,
и сим знаменует простой приговор…
Паника
Ржавым поносом и воем протяжным,
вновь извергая комочья и муть,
кашлем увесистым, рвотою влажной
трубы домовные льются, блюют.
Жители строем, едино иль парно
к дому шагают меж ливней, теней.
Окна жильцы конопатят ударно,
спешно ровняют все створы дверей.
Даже красавицы кутают лица
в шарфы, косынки и ворот пальто.
Каждый чего-то стыдится, боится.
Небо вдруг стало большим решетом.
Бороды чаще свисают и с юных.
Шмыгают чаще больные носы.
Мусор и листья, как мокрые дюны.
Страх предвещают любые часы.
Рвань облетает с дерев и построек.
Нервы искрят и гудят провода.
Падает даже и тот, кто был стоек.
Земь устилают листва и вода.
Такт забывают бегущие в транспорт.
Холод сжимает душонки в зерно.
Будто побег из посёлков цыганских
граждан, которым так стало дрянно.
Прячутся мухи меж рам и в подъезды.
Гнилью оделся любой огород.
Непромоканье важнее всей чести.
В городе паника – осень идёт…
Царь горы
Забравшийся наверх, всю слабь поборовший,
откинувший немощь, сомнения течь,
оставивший низость идей у подножья,
обмазался маслом и вытащил меч,
чтоб высь охранить от набегов плебеев,
подползов шпионов и алчных смельцов,
и зависти сильных, дурных, беднотеев,
безумцев и жаждущих славы бойцов.
Себя и владенья свои защищая,
возвёл загражденья, крапивный посев,
терновые кущи вдоль вышнего рая,
и сам возвеличился, будто бы лев!
Расставил заслоны, колюче-сплетенья
и выставил щит, чтоб атаки отбить,
чтоб как можно дольше в своём обретеньи
велико и гордо, надмирно прожить!
Сизое семя
Подсолнуха семечко – голубь,
неделю уже не кружит;
укрыв лужи грязную прорубь,
нетронуто, мёртво лежит.
Себя он, наверно, посеял,
иль кто-то недобрый помог.
Птах вечную тему затеял,
не выдав погибельный слог -
врасти в неизвестную почву,
взойти по весне и цвести,
а осенью, днём или ночью,
пробиться из шляпки, замстить
внезапной и каменной смерти
своим возрожденьем из тьмы,
покинуть согнутости жерди,
расправить крыла, и во дни
всей сизою стаей подняться,
под небо родное взметнуть…
Но знал ли, что он ошибался?
Иной у подсолнуха путь.
Постылая пора
Кусочки валежника, камешков, тряпок,
стекольных мозаик, бутылочных ваз,
лузги и пакетов, и корок от ранок,
налипших на гнильно-дорожную мазь.
И эта гуашь под октябрьским солнцем
не сохнет и вспаханно, жирно лежит,
как скисшая пища на выжженном донце,
над коей рой мух оголтело кружит.
Повсюду сквозит и шуршанье песчинок,
и сгустки, окалины вязких плевков,
опалость последних в природе тычинок,
увядшие пестики, сырость углов.
Промозглость погоды приносит печали,
бессрочность размолвок дарует тоску.
На туфлях, штанинах, заборах, эмалях
холодные брызги от броса к броску.
А вечером, ночью картина готичней.
И всё отвыкает от гульбищ, жары.
Все девы оделись теплей и приличней, -
и только лишь в этом заслуга поры.
Размятые груши на мокром асфальте.
Озябшая живность в раскисших дворах.
Упавший с верёвки белейший бюстгальтер
вбирает трясинную жижу впотьмах.
Тут каждая туча – кривой дирижабль.
Горчичные запахи, хмурость и слизь.
Застойные будни и скользкий октябрь.
Унылая осень, как, впрочем, и жизнь.
Предноябрьство
Мой город обиженный, битый и старый,
бетонный и чуть корабельный, густой,
обшарканный, пыльный, чудной и усталый
Читать дальше