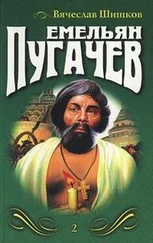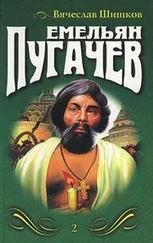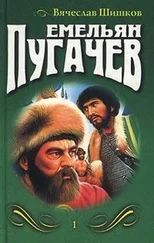***
Наверно, странные строки
я мыслю, пишу и пою…
Понятно, что ели сороки.
Что ж хищники ели в раю?
***
Как прыщик на сизой спине,
как шейная родинка, кочка,
как синий нарыв на стене,
тот ящик с названием "почта".
***
Как дупла, сделанные чуркой,
с плевками, мусором средь бурь,
набросом банок и окурков -
вагины юных, дев б/у.
***
Я много страдал или жил улыбаясь,
и видел, как гибли бою пацаны,
но вот, как сейчас, поутру, просыпаясь,
не видел ни разу умершей жены…
***
Зефир языка покрывая глазурью,
с натяжкой плоти вливаю в борта.
На нёбе узор напоследок рисуя,
я член вынимаю из узкого рта…
Рыжики
Крапинки хны – освященье от Бога
с лучшего из всенадземных кадил.
Будто бы дождик обкапал два стога -
пара осыпана медью с родин.
Будто искались все месяцы, годы,
стружкой магнитясь, брели до сего,
вмиг подошли, как внезапные коды,
и обрелись под большой синевой.
Оба (смотрящих вовсю изумрудно)
вместе шагают, тоскуя ль смеясь,
любят так огненно, ласково, чудно,
общим пожаром дождей не боясь.
Общие мысли в умах заискрили -
вместе пошли под желанный венец.
Два рыжих волоса пальцы обвили
вместо златых обручальных колец.
Жалюзи
Веки домов опускаются тяжко.
Вечер усталостью клонит ко сну.
Улицы в дрём погрузятся этажно,
шахматно всем показав белизну.
Трубы сопят и порядно вздыхают,
чуть отметая листочки от стен.
Ветки теряют листву, подсыхая
и обнуляясь в цепях перемен.
Струны столбов пообвисли так вяло,
вновь прогибаясь под тяжестью туч.
Их проводам влаги выпитой мало.
Солнце лишило текущих в них гущ.
Близятся мрачность, стихание, сумрак.
Многие души и темень родны.
Даже киоски-жучки свои шкуры
тоже прикрыли в преддверии тьмы.
Реже мелькают полёты пернатых,
мошек-людей и машин-светлячков
под абажурами лампочек златых
в серых оправах бетонной оков.
Шторность железная вся размоталась,
тесно смыкая ресницы, замки.
Снова забвенье, покой возжелались
городом тесным, сомкнувшим клыки.
Окна-глазницы закрылись к закату,
шрамы морщин показав красноте.
Ночь поукроет мир сонной палаты
звёздной периной в сухой черноте…
Оглыхание
В ушах завелась тишина
червями из каменных нот.
Мелодия грустно-темна.
Слух занырнул в гололёд.
Завеса и фоновый штиль.
Сплетенье тоски с немотой
среди атрофии всех жил,
испуга от встречи с бедой.
Скопленье, остывший затон,
затор из погасших лучей,
комки, где смерзается звон,
средь свадебно-ярких речей.
Звук, как беззвучная сыпь,
мне бросился колко в глаза
средь чёрно-мелованных глыб.
Хлестнула из букв полоса.
Ударностью лома по лбу
меня оглушил этот вздор,
даруя чужую толпу,
поток отвращений, позор.
Внезапно, как брызги всех гроз,
плеснул отрезвляющий свет,
когда на заветный вопрос
сказала ты горькое "нет"…
Тракторист
Намечены планы сельхозных работ.
Большой агроном багровеет в палатке.
По водочно-красным щекам льётся пот.
Проснулись закуты и избы, и хатки.
И главный трудяга седлает свой трон,
дымуя горелой моторною вонью.
Издавши сигнал, матерящийся стон,
вперёд устремляется, выпив спросонья.
Вся дымь папиросная, будто туман,
затмила сознанье и вид из кабины.
Шаманит внутри самогонный дурман.
Машину ведёт, огибая, как мины.
Всё рулит, петляет в густой целине,
вгрызаясь в осевшую с осени пашню,
в просаленно-пьяном и муторном сне,
и смотрит в стеклянную, мутную башню.
Он плугами режет все почвы, кусты,
и птичьи напевы не ведает слухом,
срезает сорнячные ленты, росты,
а выхлоп солярочный травит округу.
Злой тракторный рокот гудит, будто гром,
в минуты прохладно-станичной зарницы.
Рычащий движок раскалился костром,
но гонит водитель кривой колесницы.
Рассветное утро. Часы на семи.
Весенние дни трудоёмкого сорта.
И пахоты пыль, как горенье земли,
скрывает его за седым горизонтом…
Стационар
Вся кровь – блуждающая боль.
Бессильны дюжины инъекций.
И душу ест, смакует моль,
минув десяток дезинфекций.
Всё тело – ноющий сосуд,
чей остов полон всемучений.
И каждый день тут – новый суд,
что вновь приносит огорченья.
Век обречённости, тоски,
и смерти склад такой удобный,
где человек – кусок доски,
стоит, лежит совсем прискорбно.
Читать дальше