Река… строка… непостижимо дно.
На дальний берег я гляжу подолгу,
поскольку там горит твоё окно,
но я, как ветер, в поле верен долгу.
Долги, долги! Нова моя тоска.
Напр я жена весны спинная хорда.
Течет река, свинцовая река,
она безмолвна после ледохода.
Текут века. Крепчает звездный хор.
Мелькают миги. Наступают сроки.
И вот горит не бакен, светофор,
смешав непримиримые потоки.
Прости, мой друг! Тоскою обуян,
влекусь душой к границам и заставам.
Ведь улица впадает в океан,
смыкаясь за спиною ледоставом.
Этот ночной паром
фарами озарен.
Вырублен топором
из череды времен.
Глухо плывет в туман.
Был, а уже и нет.
Словно в пустой карман
кто-то просыпал свет.
Бежит через дорогу кобелек.
А мы не замечаем, как стареем.
Затеплим, дорогая, камелёк
и кобелька беспутного пригреем.
Да, путь далек, беспечен кобелек,
но камельком подлунный мир подсвечен.
Пусть в чистом поле тонкий стебелек
колеблется и верует, что вечен!..
В личном космосе
шторы ветхие…
Смыслу здравому вопреки
продувают их несусветные
трансцендентные сквозняки.
Я планету из легких выдую
(в стылом полыме полый я).
Между фатумом и планидою
смыслом схватится полынья.
Позитронами да нейронами
невозможно пронять сие
закосневшее в черной проруби
поднавязшее бытие.
Но оцежено винопитие.
Колосятся хлебы стола.
Замираю,
когда наитие
размыкает предел угла.
Ни созвездия, ни мизгирика
не дано мне понять умом.
Оттого моя метафизика
преткновенье в себе самом.
«В многолюдье и в диком племени…»
В многолюдье и в диком племени
голос Вечности груб и прост:
«И в мужском и в горчичном семени
скрыта тайна рожденья звезд…»
Впрочем, всё же не тайна – таинство.
Сир солдатский тупой сапог.
По вселенским шатрам скитаемся.
«Мать Вселенная, ты ли Бог?!.»
«Глагол раскрошится, как мел…»
Глагол раскрошится, как мел,
изнемогая стать преданьем.
Гордыни я не одолел,
соприкоснувшись с мирозданьем.
Сгущаю звёздную нугу
я, неединожды солгавший.
Но Бог на дальнем берегу
врачует свет, меня соткавший.
Он прочит «все не без греха…»,
когда в ночи над отчей крышей,
кнут переняв от Пастуха,
целует свет, меня избывший.
«В спелом яблоке червоточина…»
В спелом яблоке червоточина,
на округлости – след зубов…
Заплутавши во снах пощечина
осыпает кору с дубов.
Звон в ушах, на оси – вращение.
«Дед Пихто да цирк Шапито!»
Тишь, зардевшая от смущения…
«Ослепительная, за что?»
Понапрасну ножи наточены:
быть капустнице за сверчком…
Где-то рощах шумят пощечины,
я их в поле ловлю сачком.
Разговор сторожа с отроком, пикетирующим прошлое
– Расти, расти до полу, борода! Дым из ушей стелись до Сахалина! В строю ходил, но в стаде – никогда. И потому, шагай отсюда, глина… или побудь со мною, мальчуган. На грустной ноте песня у соловки: в утробе недр урчащий ураган, вот-вот сорвет с цепи боеголовки. В часах песок остывший захандрит, не сможет течь в отвалах високосных. Наступит час – земля заговорит, и полетят ракеты в дальний космос. И цель отыщет каждая – свою, далекий гром Создателя разбудит. И это вам не баюшки-баю.
– Проснешься ночью – и Луны не будет?
– Не смейся, дурень, тут мы все равны. Античный мастер понимает глину. Давным-давно уж нет моей страны. Я, старый воин, обхожу Руину. Горит огнем парадный аксельбант, мой сизый нос смеркается сквозь годы… Бросай в костер трескучий транспарант с кривой ухмылкой Статуи Свободы! Взгляни в бинокль: архангел Гавриил уже спешит к тебе на колеснице. Но не боись, я внукам сохранил в ракетной шахте огненные спицы. Знай: старым ранам долго заживать…
– Уйди, старик, ты смотришься нелепо. Мы очень скоро сможем зашивать и шар земной и траченое небо.
– Ну, коли так, встречаемся в аду! В натёках боли бронзовый калека, в грядущий миф бредя на поводу, я оцежу Руиной – Человека…
«В чем мне признаться Богу?..»
Читать дальше
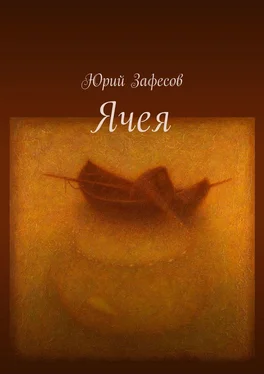




![Юрий Воищев - Детская библиотека. Том 45 [Юрий Тихонович Воищев Альберт Анатольевич Иванов]](/books/401002/yurij-voichev-detskaya-biblioteka-tom-45-yurij-tihon-thumb.webp)

