1 ...8 9 10 12 13 14 ...27
Испивший огненную сушь,
неси сверзающийся нимб
в заклад распоясавшемуся сброду.
Мы что имеем – не храним.
Вон Пик Вселенной, а под ним
порода, изолгавшая природу.
Вырастает отрок из штанин, несуразен, то есть бесподобен. Перманентно пьяный гражданин, житель исторических колдобин. Имбирем напоенный экстракт гражданину глотку припекает. Из-под сапога Московский тракт истекает, словно избегает, как дворняги бешеной слюна, как снега стенающего марта – от енота от полоскуна и до полоскучего Штандарта.
Тракт Московский – галочий насест. Просквозив бараком и сараем, он бежит из сотен разных мест, из любых неведомых окраин. Вслед ему глядит абориген, черным грибом голод утоляет: подзаборный галлюциноген только так в Московию гуляет.
Тракт Московский – горняя стезя, ниспаденье северного ветра. Под куранты умирать нельзя, умыкнув пришествие рассвета. Это внял доживший до седин, невзначай повенчанный со славой, перманентно трезвый господин, угловатый пастырь златоглавой. В храм вошел, меня предостерег:
– Не терплю плебейской укоризны! Мы и есть те ниточки дорог, что связуют помыслы Отчизны.
Раздумье над картиной покойного друга
А всего-то – пара страстных взмахов, и – взлетая, таю над толпой. Я не видел столько красных маков: вышел в небо – кончился запой. Значит, город не убил желанья жить, творить и отрываться с крыш. Над землей – молитвы и камланья. В гуще я – крылатый замухрыш. Повстречавший тучи липкой твари, душной мошки, оклубившей взор, я горю в трущобах киновари, отражаюсь в заревах озер.
Я шумлю, спугнув аборигенов, повисаю в тучах пристяжных, различаю многих диогенов, аввакумов, грозных, шергиных. Я пою – Шаляпин (не Каррерас) – на границе света и ни зги, над алмазным Мирненским карьером замыкаю дантовы круги.
Вскользь лечу на русским рассеяньем: все, что видел издали, вдали истекает северным сияньем, завывает в снеговой пыли. И напомнив мне о черной шахте, кто-то черный шепчет о судьбе…
Кто крылат – летайте, продолжайте! Растворяйте Родину в себе!
От этой жизни,
подло падкой
на миражи небытия,
болела пуля под лопаткой,
летая в дальние края.
Жрала шагрень
ничтожной плоти.
Ревело адское сопло.
Болела пуля… на излёте
уткнувшись в отчее село.
Друг Володя, едва ли
смысл исканий в борьбе.
Умных к умным послали,
а меня, брат, к тебе.
Нас никто не торопит,
посидим, помолчим.
Наш окраинный опыт
для неярких лучин.
Но и в отзвуках битвы,
во хмелю и в поту,
мы не помним обиды
за свою темноту.
И не жаждем отмщенья
за безмолвные дни.
Мы лишь гул возвращенья
убиенной родни.
Помраченье мне путь означало,
когда шла ты по сходням к воде.
И молчание, словно мочало,
повисало на банном гвозде.
Пар крепчал, отдавала печурка
жар камням – скорлупе черепах.
И слепая голодная щука
целовала твой огненный пах.
Ни Бодлера не помня, ни Рильке,
вслед тебе я глядел, как дурак.
И – дерзнул, и – шагнул из парилки
прямо в брезжущий брызжущий мрак.
«Бродит солнце в осеннем саду…»
Бродит солнце в осеннем саду,
ветви вишен мерцают кроваво.
Я к тебе непременно приду,
как придет ко мне грозная слава.
Я увижу её на просвет
и, багровые комья роняя,
подарю тебе терпкий букет
из деревьев, что вырвал с корнями.
«В житии, прогорклом и погаслом…»
В житии, прогорклом и погаслом,
старый К и ренск – мой спасенный рай.
Я умел испортить кашу маслом,
всё во мне творилось через край.
Дед Мелетий, не гневись на внука!
Я на твой покой не посягну.
Мне доступна поздняя наука
собирать по крохам тишину.
«В сквозящем заполночь листе…»
В сквозящем заполночь листе
печаль истаявшего лета.
Я стану видеть в темноте,
устав от недостатка света.
Я первый снег переживу,
я доживу до новой грёзы,
уже струящейся по шву
во тьму дымящейся березы.
«В каком году, в каком-таком бреду…»
В каком году, в каком-таком бреду
ответное возникнет «кукареку».
Я улицу никак не перейду,
ведь мне она напоминает реку.
Читать дальше
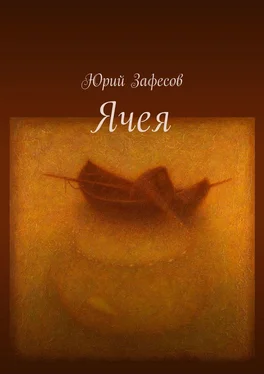




![Юрий Воищев - Детская библиотека. Том 45 [Юрий Тихонович Воищев Альберт Анатольевич Иванов]](/books/401002/yurij-voichev-detskaya-biblioteka-tom-45-yurij-tihon-thumb.webp)

