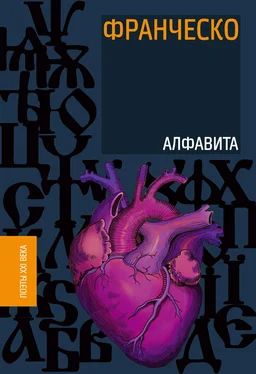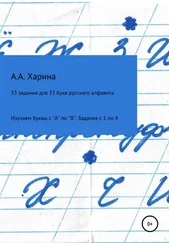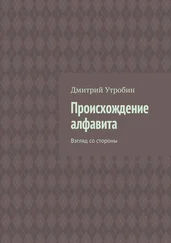и хобот и длинные уши
и древний расколотый клык
несёт нерожденные души
сквозь воду домой, напрямик.
неуловима тень от дыма
и миг любви неуловим, —
жить без него – непредставимо,
но ты умрёшь, столкнувшись с ним,
а тот, что – может быть – воскреснет
и искренней и интересней
и от тебя неотделим,
но безтелесен, чист и пресен,
и сам собою… нелюбим.
я – Мартин Хайдеггер, и я заброшен в лес,
немы́ стволы деревьев, не́мы травы.
и небо давит на меня, как пресс.
и все правы́, и все имеют пра́во
на бытие, но нет им оправда́ния.
цветок увянет: это увядание,
антицветение, тоже факт земли,
чтоб люди зафиксировать смогли
бессмысленность и нужность состраданья.
я есть – и такова моя работа.
я есть. я – сострадание, забота.
моей души прозрачное стекло
дрожащее дыханье стеклодува
из флейты металлического клюва
для музыки волшебной извлекло.
вселенной сердца сонный первозвук
становится пронзительней и мягче
от боли непредвиденных разлук,
наружу льётся, всхлипывая, плачет.
прозрачен, как хрусталь, и так певуч,
в молчании я жду звезды вечерней,
чтоб отразить её лиловый луч —
и зазвучать легко и многомерно,
как часть симфонии, как увертюра дня,
как камертон глобального хорала.
стекло изъято было из огня,
но пело и само огнём сияло.

ты глазами снимаешь фильмы,
бесконечные раскадровки,
в этих фильмах – пейзаж печальный,
приглушённый, неяркий свет.
говоришь, будто пишешь пьесу
под космическую диктовку,
предвещает исход летальный
излагаемый там сюжет.
а потом ты меняешь ракурс,
или что-то сбивает фокус,
и размытым пятном вплывает
в мизансцену шалой герой.
прикоснувшись к стеклу губами,
получает безмолвный допуск.
не кривляется, не играет,
просто машет тебе рукой.
вот уже панорама сверху,
и она без монтажных склеек:
ты сама на себя взираешь
и смеёшься с набитым ртом,
вы бежите вдвоём по парку
мимо тощих его аллеек,
он хохочет, а ты летаешь,
задевая его крылом,
а в конце вы уже в обнимку
пьёте чай из стеклянной кружки.
опускается кран. к подошве
прилепился осенний лист.
и тихонечко, под сурдинку,
слышен голос твоей подружки,
потому что подружка – тоже
автор пьесы и сценарист.
февраль брильянтовый, февраль – алмазный,
февраль невыносимо ледяной:
кристалл воды – как со снежинкой связан?
снежинистость – с структурой водяной?
откуда столько форм и положений?
а с неба шестигранники летят,
от фонаря отбрасывая тени,
напоминая беленьких утят.
мы сидим. мы играем в фанты.
ты прекрасна как иерофанта.
мы с тобой – нелокальность квантов,
и запутанность их – мы с тобой.
поколение не пепси, но фанты:
отсудили чистилище Данта,
опровергли Декарта и Канта
карантинной своею весной.
мы сидим: ты в пустом Париже,
я – в подвале, что ада ниже,
губы сомкнуты как пассатижи
и натянуты тетивой
между нами тугие струны,
а под струнами – мир подлунный,
и один только ветер юный
сонно водит по ним рукой.
рынки ценных бумаг и акций,
языки и границы наций —
волны наших галлюцинаций:
мы всерьёз увлеклись игрой.
отличимы от хантов манты,
отличимы бинты от бантов,
отличимы понты от пантов,
различимы ли мы с тобой?
не различны, зато мы – разлучны:
благородно и благополучно
той игрой управляет случай,
а зовётся она – судьбой.
о лабиринт височной кости,
в котором бродит минотавр.
поток необратимой злости
он обращает в бой литавр.
ухо-уходит безвозвратно
в ухо-ухоженный чертог,
и, ух-хмыляясь многократно,
стремится ух-хватить свой рог.
она чувствительна к словам,
а так же к паузам и жестам,
к ландшафту, лесу, духам места,
к озерам, лужам, облакам.
она чувствительна к слезам,
она сама от счастья – плачет,
к чужим чувствительна тем паче,
что их разделит пополам:
пол капли в сахаре и в соли,
кристалл впитает стыд и страх,
а тайна звездного пароля
уже трепещет на устах.
Читать дальше