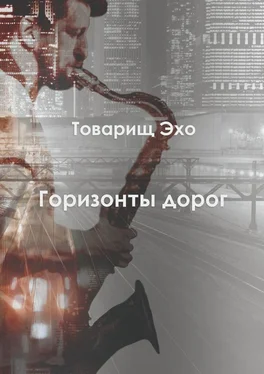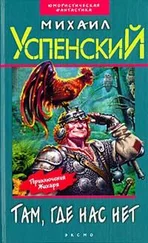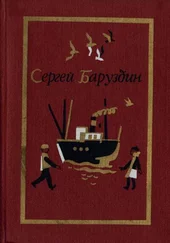Частокол дубинок на взлетно-посадочной
Полосе в переулках, высеченных
Желтыми лампочками фонарных столбов.
Время – как улика в прозрачном пакете.
Мы прихватили с собой эту уличную стужу
И теперь оконные стекла покрыты инеем
Изнутри, где положено тепло, покой,
Биение живого сердца.
Что-то случается сообразно воле, что-то
Происходит само по себе, как музыка утра,
Когда ветер играет на битом стекле,
Когда шаг звенит колокольчиком
На твоём запястье.
Солнце выкатывается на шоссе и кладбища,
И жирные черви подземки приходят в движение.
[открытка с цветами на фоне]
Пахло песком и зноем
На заброшенной станции, где поезда
Смотрели сны, и в их покое
Привычно копошилась ржа,
Раскрашивая цветом осени вагоны,
Сидения, ступени, фонари.
И кто-то в чёрном восседал на пыльном троне
Внутри.
И кто-то в белом приходил на праздник
Чужой не-жизни, принося букет
Подсолнухов. И время, беззастенчивый проказник,
Шманало по карманам на предмет
Наличия билета за проезд
На берег тот, где, хоть ты тресни,
Даже попав на верный след,
Не верь, не бойся – не воскреснешь.
И только рокот ветра вторил в баритон
Нехитрую мелодию покоя.
Прохладный джаз прилива в чуткий сон
Впускал дыхание северного моря.
Здесь не было ни неба, ни светил.
Вечерний мой костёр давно остыл.
Уснули все, кто грелся у него,
И не осталось больше ничего.
И чтобы не терпеть природы пустоты,
Я миру придавал свои черты.
И за неимением вовне холста,
Холстом служила пустота.
Сначала рисовал я миру свет,
Волну, частицы, фон, движения планет.
Но свет явил вслед за собою тьму,
Тень стала крышей дому моему.
И слушая течение воды,
Тьма также повторила все мои черты.
Нас стало двое воле вопреки.
Друг против друга – берега реки.
Так воды прочь несла река.
И моя поступь по земле была легка.
Нас было только двое: я и тень.
Единым целым вышли в первый день.
[базальтовая флейта соло]
Человек с большими ладонями собирает ласточкины гнезда,
сеет ветер, пожинает бурю;
в ботве головы хранит стесненную несвободу,
в груди – крылья, креп, крик, другую
картину реальности, писаную масляной краской и углем…
тело начинается, как географическая карта будней
со множеством неизвестных, со вкусом прогорклого кофе,
с бесцветным пятном ландшафта, застывшими в полете
инопланетными чайником, чашкой, блюдцем.
Сюда не ступала нога ни-живого-ни-мертвого и вернуться
в пустующее нутро может, разве что, придуманный кроткий бог
всех насмерть замерзших детей и заплутавших сов,
спешно слепленных из дерева и базальта…
Кит проглатывает, наконец, свою Андромеду и ныряет в дельту
Миссисипи, негритенок играет блюз ржавой сковородки,
и Лайка летит над рекой песьих душ в дырявой лодке.
в такой-то год, такого-то числа
в плацкарте забивали мы козла,
а за окном по полустанкам
сновала сонно голытьба.
все чин по чину: стрелки, масти.
в душе обычные кипели страсти,
по полкам мыкалась урла.
и я меж ними снова, здрасьте,
свят и безгрешен, как дитятя ,
скажи-ка, ведь не даром, дядя,
мне эта жизнь отпущена?
какой чужой насмешки ради
мешу я грязь и жру пуд соли;
и это небо голубое,
души не чуя под собою,
земной касается юдоли?
чтобы трещать пустой костяшкой,
марать столы грязной рубашкой,
засаленной иуды лапой,
больше привычной к полторашке.
есть бог, и есть его причина.
гудит небесная машина,
пыхтя на холостом ходу.
под толщей облачной овчины
замкнётся круг наш поутру,
осевши горечью во рту.
и мир снаружи станет чище,
когда я-человек умру.
когда останется идея
не эллина и иудея,
в пустой безадресности слова
час от часу в ночи старея,
но чистая идея света,
ввиду отсутствия предмета
распахнута вовне, как лето.
и бог простит меня за это.
за то, что жил, как те и эти.
как все живут на свете дети.
в своих наивных мыслей бреде
на этой маленькой планете.
Ветер ерошит стебли травы,
Как волос седой с чужой головы.
В недрах земли отдаётся звук
Корней, говорящих друг с другом вслух.
И если верить людской молве,
Цветение болот – всегда к беде.
Ближе к закату, в мёртвый сезон.
И на каждое слово есть свой резон:
Священник идёт на дальний пустырь
Читать о заблудших старый псалтырь.
Но обветренный воздух из речи его
Не сохранит ничего.
Так ржавый ветер режет слова,
И качается в такт у ручьев голова.
Только медные трубы сопят свой мотив.
Только стены, как вены, стоят супротив
И не видят смысла ложиться костьми
Во влажную землю бок о бок с людьми.
Это форма бессмертия, веришь, дружок?
Стать недвижным как камень, свернуться в клубок.
Города дрейфуют, цветёт ковыль.
Каждая ложь становится – быль.
Порастает быльём, вереском, мхом,
Чтобы ландшафтом вернуться потом.
Читать дальше