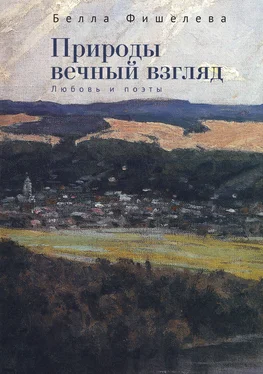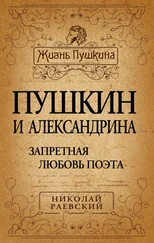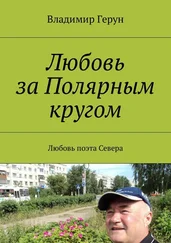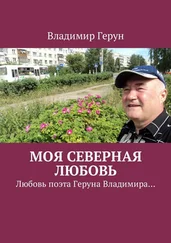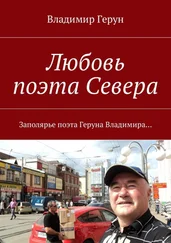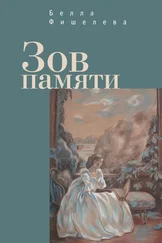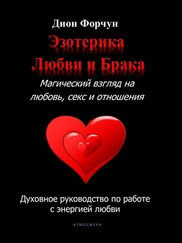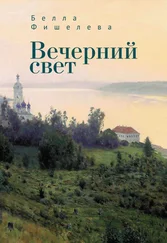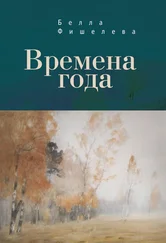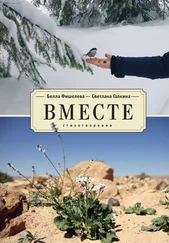Правда это или миф, неажно: «Героическая» была и остаётся «каким-то чудом даже среди произведений Бетховена. Она открывает собой эру» (Ромен Роллан). В 3-тьей симфонии «раскрылась впервые вся необъятная, изумительная сила творческого гения Бетховена» (П.И.Чайковский). «Необъятная творческая сила» – это то, что мы считаем постоянным воспроизведением человеческой жизни, потому что, чтобы жить, люди должны воссоздавать себя, всё человеческое в себе. Создания Бетховена «открывают собой эру» – эти слова Р. Роллана, писателя и исследователя творчества немецкого композитора, связаны с мыслью о громадной гуманистической роли музыки. Суть этой мысли в том, что музыка, классическая, Бетховена, например, является источником жизни. Как бы до сих пор ни возвышали личность Наполеона Бонапарта, он остаётся гением, сеявшим смерть, разрушения, страдания людей. «Гений и злодейство» [1] А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери».
– всё-таки проблема, и личность Наполеона тому пример. Исторически Бетховен и Наполеон Бонапарт противостоят друг другу как антиподы.
И что же, Наполеон – это что-то уникальное среди тех властителей, которые, придя к власти, способны вести политику, прямо противоположную своим прошлым утверждениям, лозунгам, обещаниям, постоянно укрепляя своё по сути монаршее положение? Нет, они, как когда-то Юлий Цезарь, сами способствуют своему обожествлению и попирают, порой уничтожают права граждан. А таковых нет в наше время? 21-ый век бесконечно далёк от подобных (конец 18 века!) наполеоновских притязаний? Императорами себя не объявляют, но спасителями своего народа, может быть, и человечества – исподволь, конечно, провозглашают. Неужели есть ещё такие, навязывающие себя людям, не гнушающиеся никакими средствами подавления инакомыслия? После критики И. Кантом (конец 18 века!) такой максимы, как «цель оправдывает средства», они отказались от идеи, что все средства хороши, если они укрепляют их якобы единственно возможную власть? Неужели люди, общество, поддерживают их? А может, люди есть, но общества ещё нет? Как нет? Ведь в том же 18 веке об обществе всё было сказано в той же Франции, например? А, понимаю: они книжки знаменитых просветителей не читали, но когда прочитают, то… Случится это ТО? Или только великий Бетховен способен на отрицание подобных «властелинов судьбы» [2] А. С. Пушкин в «Медном всаднике» называет Петра I властелином судьбы.
, или такие, как он, единичные существа в поле зрения истории, или нужно сначала стать гением, как Бетховен? Но как до этого далеко!
Первая строфа стихотворения Афанасия Фета 1853-его года «Вечер». Четыре строчки трёхстопного амфибрахия, и образ летнего вечера в средней части европейской России возникает в нашем сознании настолько реально, точно мы видим его сейчас, в эти мгновения. Вот эта строфа-картина:
Прозвучало над ясной рекою, Прозвенело в померкшем лугу, Прокатилось над рощей немою, Засветилось на том берегу.
Трудно найти в мировой поэзии прекраснее этих строк, рисующих русскую природу. Они неизъяснимо, томительно, таинственно прекрасны. Мы не знаем, какой звук или звуки слышал поэт и что можно было бы нам услышать. Наверное, чтобы как-то понять звучание летних вечеров, услышанное Фетом, мы должны прослушать все музыкальные картины природы великих композиторов, таких, например, как Чайковский, Мусоргский, Равель, Дебюсси. Однако и после этой музыки четыре строчки стихотворения Фета останутся неизъяснимо прекрасными.
Как во всём его творчестве, А. А. Фет проявляет здесь «лирическую дерзость, свойство великих поэтов» (слова Л. Н. Толстого о Фете). Картина создана четырьмя глаголами прошедшего времени, среднего рода, а картина летнего вечера перед нами, точно в объёмной яви. Эти явления вечера в движении: глаголы идут подряд, не утомляя наш внутренний взгляд, и расширяют рамки пейзажа. В стихотворении всего три строфы, 2-я и з-я дают необходимые, как, возможно, думал поэт, детали пейзажа летнего вечера. Но суть картины словно задана первой строфой: при явном лиризме стихотворения в целом в нём ощущается (и это мы видим, представляя всю картину!) эпическая полнота, словно необъятное пространство, даже невидимый, но чувствуемый нами вселенский простор. Какое-то чудо – чудо искусства, не поддающееся обоснованию логики!
Но мы будто стоим на том «пригорке», где и «сыро», и «жарко», видим и слышим бескрайний мир, одухотворённый языком поэзии великого мастера слова. Этот мир – тайна, как дал нам понять Афанасий Фет, нарисовав простыми русскими словами картину родной природы и вызвав ответное чувство любви к ней
Читать дальше