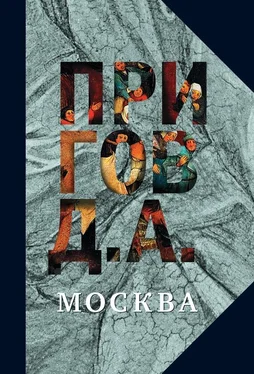Попутно в скульптурной мастерской и рисовальном классе я изобретал всевозможные проверочные перпендикулярные, поперечные, косые и все мыслимые умопостигаемые сечения живых телесных объемов для проверки их наполнения и напряжения. Да, в этом можно было полностью пропасть. И я пропадал. Господи, в чем я только тогда не пропадал! А напряжение последним усилием, почти на грани психологического и нервного истощения, выведенной линии финального контура! А входы объемов друг в друга и линии их сопряжения! А звучание тональности. А ее же растяжка от черного к белому через бесчисленные, почти не уследимые непрофессиональным глазом градации!
А какие люди там были! Разнообразнейшие и удивительнейшие!
Некий, например, Яковлев, двумя годами и курсами меня старше, обитавший в мастерской этажом выше. Целые дни он сидел на стуле, изящно закинув ноги на подоконник, не обращая внимания ни на кого из входящих, подходящих к нему, заглядывающих ему в ясное, почти отсутствующее лицо, будь то студенты или профессора. И все ему попускалось за неимоверную, нечеловеческую одаренность. Он глядел перед собой, прямо в ближайшем пространстве созерцая разнообразные чистые умозрительные формы. В основном в стиле столь влиятельного в то время позднего Генри Мура, британского гиганта скульптуры. Каждый входящий застывал в удивлении и восхищении, наблюдая проплывание этих форм в воздухе от сидящего Яковлева в направлении оконного стекла, о которое они ударялись, позвякивая, и плыли обратно к творцу. С тем же мелодическим звоном они ударялись о его голову, и если оказывались несовершенными или по каким-либо причинам просто не удовлетворяли его, то мгновенно исчезали. Причем со стороны понять причины неудовлетворенности художника было невозможно – все они казались просто бесподобными. Само совершенство! Но мы же с вами знаем неимоверную, почти до мучительства и самоизничтожения, требовательность к себе истинного художника. А Яковлев из этих. Совершенные же, прекрасные продолжали висеть, чуть покачиваясь в воздухе. Сила его визулизации была такова, что они становились объективными явлениями нашего реального мира, представляясь всем вполне реально наблюдаемыми. И светились необыкновенным светом. Впоследствии же эти образы-видения самым неописуемым образом становились вполне материальными объектами, выставлялись на выставке, даже могли быть проданными, существуй тогда практика коммерческой реализации произведений искусства. Впоследствии, как мне рассказывали, Яковлев отошел от слабого, соблазняющего искусства, перейдя к созерцанию высших, неделимых и неизменяемых сущностей. Вокруг него образовалась некоторая группа людей, уверовавших в него как в гуру, аватару Будды-Майтрайи. Ходили слухи, что он вовсе трансфигурировался в некоего высшего покровителя Руси – Агона. Хотя я лично больше его не встречал, а подобных учителей и учений по Союзу тогда распространилось столько, что сам черт голову сломит. Как говорится, хоть жопой ешь. Что же – всем и верь? Нет, я смиренно был увлечен чистым, неподдельно прекрасным искусством.
Но встречались и другие, не менее замечательные. Например, некий Верхоланцев – наиудивительнейшее существо, возымевшее амбиции и упорство самотренинга в желании одолеть наибыстрейших людей планеты. В то время, как, впрочем, и сейчас, это были в основном чернокожие американские атлеты. Но ничто, даже это не могло остановить его. Плотно скроенный, низкорослый, в одних трусах и шиповках, с дикой неимоверной скоростью и грохотом проносился он взад-вперед по длинному узкому коридору первого этажа возле институтской столовки. Шипы его легкоатлетических тапочек в крошки разносили твердый дубовый паркет коридора. Плотный, кабаноподобный, в яростном стремлении к будущим победам и завоеваниям, своей потной, разгоряченной, неимоверной плотности на каждый кубический сантиметр плотью он отбрасывал к стенкам мирных, тощих, немощных обитателей институтских мастерских, питавшихся в столовой чаем и мучными рожками с колбасными обрезками. Верхоланцев достиг невероятной скорости и успехов в своей спортивной дисциплине. Я убежден, проводись Олимпийские игры в коридорах служебных помещений на дубовом паркете, ему не нашлось бы равных. А что, существуют ведь, в конце концов, пляжный футбол, настольный теннис, водное поло. Почему бы не быть бегу на 100-метровую дистанцию по коридору? Я пришел в институт, достиг там пика своей популярности, был из него выгоняем за формализм, заново восстанавливаем. Уже с невероятной скукой и небрежением я оканчивал его, снисходительно получая вымученный диплом, нужный скорее измучившимся со мной преподавателям. А Верхоланцев все с тем же упорством, азартом, свежестью желания успеха и побед, неистово грохоча, проносился по пространствам словно приросшего к нему института. Окончив Строгановку, посещая ее в редко выдававшиеся случаи, я не встречал его лично, но видел по-прежнему вывороченный паркет и слушал рассказы студентов о странном существе, ночами с диким ревом носящемся по коридорам института.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу