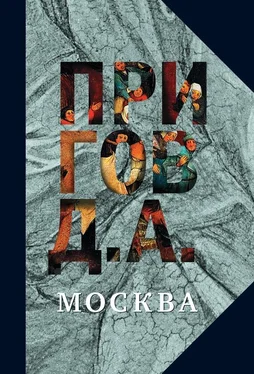– Но пасаран!
– Патриа о муерто!
– Блядь, не пройдут!
– Назад, понимаешь, ни шагу, товарищ, понимаешь!
И бесчисленное подобное же, мной тогда просто не понимаемое. Это сейчас я знаю многие иностранные языки, могу вести вразумительные беседы с различными людьми на различных интернациональных мероприятиях. Порой я удивляю их своей недюжинной сообразительностью, подвижностью внутри чужого мне языка, сочиняя на нем даже присказкиприбаутки, типа: First – duty, then – beauty! А тогда все было иначе. Тогда все было совсем иначе. Этого нынче просто не объяснить. А объяснишь – так никто не поверит.
Тогда, после многих лет изоляции, закрытости, замкнутости, все для нас, бедных неухоженных пасынков мирового сообщества, представало потрясением. Говор, манеры, ночные беспрерывные бдения, неожиданные многомесячные баталии и битвы, концерты, выставки и фестивали. Для нас, воспитанных в строгости почти викторианской морали, высокой нравственности, были шокирующими ночные любовные утехи, эротические демонстрационные откровенности и сексуальные опыты. Нас прямо отбрасывали в сторону спазматические выкрики из кустов или зарослей привычно тихих, девственных московских парков. Мы не знали, как реагировать на выносимых оттуда, еще облитых первичными водами только что рожденных смуглокожих младенцев. Их отправляли в дома матери и ребенка. От них пошло племя темнокожих кудрявоволосых россиян, которые теперь заселяют по преимуществу Европейскую часть нашей родины, несколько уменьшаясь числом своих представителей по мере удаления на восток. В самых же удаленных восточных частях России, в Хабаровске или на Крайнем Севере, в местах поселения эвенков, их ныне насчитывается на боле 1–2 миллионов.
Естественно, что все это было небезопасно. Я не имею в виду страшные неумолимые болезни, нынче распространившиеся среди сексуально небрежных людей. Тогда все, к счастью, еще излечивалось. Я о другом. О том, что, бывало, нас из-под кустов вытаскивала милиция и волокла в ближайшее отделение. Иностранного уважаемого гостя или гостью, естественно, отпускали, а нас задерживали на ночь, на неделю, месяц. Вслед за этим после избиений и бесчисленных унижений высылали из Москвы на длительное жительство куда-нибудь на окраину страны за поведение, несовместимое со званием гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Таким образом, постепенно заселялись окраинные и удаленные территории, нуждавшиеся в рабочих руках для своего освоения и экономического подъема. В общем, все на пользу. Однако какие из нас могли получиться помощники да созидатели? Зараженные в результате всех вышеописанных странных половых и прочих контактов опасными венерическими (и не только венерическими) заболеваниями, мы тихо слабели, умирали от открывающихся, прорывающихся наружу гнойников и пролежней. Да, уж какие из нас после всего этого помощники общества, спасители человечества!
Но все равно в памятные дни фестиваля было весело. Необычайно весело. Безумно, по-нечеловечески весело. Хоть на время, но весело, радостно было. Все пребывали в каком-то возбуждении и ажиотаже. Стояло лето. Потом осень. Потом наступила зима. Потом все уже как-то потускнело в памяти, поблекло, затерлось, позабылось.
Потом пришло другое время. Потом сняли Хрущева.
Говорили, что сняли его за дело. Говорили, что он массу всего понаделал глупого. И не только глупого, но неприятного. Вредного и разрушительного. Даже жестокого. Я припоминаю лишь одно мероприятие, особенно врезавшееся в память всей тогдашней интеллигенции. Интеллигенции, конечно, прогрессивной и либеральной. В начале июля какого-то лета, в очень жаркий выходной день недели Хрущев и всякое остальное правительство собрали некое совещание деятелей культуры и искусства. Нечто торжественное, широко освещаемое средствами печати и массовой информации. Руководители, одетые в белые парусиновые костюмы, рубашки, шляпы и белые же парусиновые ботинки, важно восседали на открытом воздухе под огромным тентом, за длинным, умещавшим их всех столом. Они вальяжно переговаривались и сдержанно улыбались. Совсем незадолго до этого вышло постановление о назывании их разными прекрасными почетными титулами – князь, граф, ваше высочество и пр. Постановили они, конечно же, сами, но в согласии со всенародным неодолимым желанием, правда, не имевшим тогда никакой иной формы и возможности быть оглашенным, кроме как через желание и волю самих руководителей. Вот они, следуя всенародному желанию, и постановили. Правда, титула монарха, памятуя все-таки пролетарскую суть руководимого ими государства, не присвоили никому. В народе это поняли, оценили по достоинству. Говорили, если бы Ленин дожил до наших дней, то, возможно, он бы был единственно достоин монаршего звания и титула. А так – никого нет равновеликого ему, дабы присвоить звание царя или императора. Все равны. Ну, конечно, некоторые выделялись. Особенно Хрущев. Но, принимая его неоспоримое преимущество и в уме, и умении, и мудрости, все-таки не решились присвоить ему высшее звание. В этом мнение вождей абсолютно совпало опять-таки со всенародным. В те времена руководство было едино с народом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу