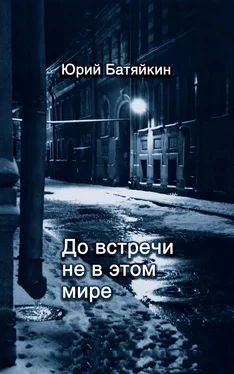– А какова причина? – спросила она.
– Одиночество, – ответил я.
Она велела мне поехать к отцу Сорокину в Александро-Невскую Лавру и подать прошение. Отец Сорокин запомнился мне тем, что видел меня насквозь. Прошение принял.
А через неделю я получил по почте письмо.
На бланке Митрополита Ленинградского и Новгородского – Батяйкину Ю. М., за № 1065/9, 11.10.89 г. было напечатано:
«Канцелярия Митрополита Ленинградского и Новгородского сообщает, что на Ваше прошение отпеть заочно Вашу знакомую Орбелян Марину Константиновну, окончившую жизнь самоубийством, последовала резолюция Высокопреосвященнейшего Митрополита Алексия следующего содержания:
«ОТПЕТЬ ЗАОЧНО РАЗРЕШАЮ.
МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ».
И. о. СЕКРЕТАРЯ МИТРОПОЛИТА ЛЕНИНГРАДСКОГО
И НОВГОРОДСКОГО ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ГОЛУБЕВ»
Отпевали Марину в храме Всех Скорбящих Радости, где меня когда-то крестили, на Ордынке в Москве. После отпевания мне дали мешочек с песком, с какими-то бумагами, которые следовало закопать в могилу Марины. Но Наталья Романовна говорить со мной не желала, и этот мешочек долго лежал у меня. Когда я понял, что моя жизнь кончается, я сжег его вместе с разрешением на отпевание.
Осенью 2012 года я его содержимое высыпал в море на излучине залива Коктебеля, выйдя в море на катере.
На месте ее родителей я бы повесился. Но отец уехал в Лос-Анжелес, откуда когда-то приехал, и что он чувствует – я не знаю, а Наталья Романовна сообщила подруге, что Марина была такая же чокнутая, как я.
Скитаясь от тоски по чужим городам, я возненавидел мир с его лицемерием и шаблонами. С окружающими стал вести себя высокомерно, вызывающе и язвительно.
Исключения были, разумеется. Но редкие.
В ту пору я затеял войну с графоманами, с присущим мне в этом вопросе сарказмом. Хотя я везде был вхож, и меня узнавали, принимали, восхищались – печатать опасались.
Глядя на всеобщее лицемерие, я начал сочинять и рассылать по всей литературной Москве пародии на известных в Москве и Питере советских поэтов – редакторов отделов поэзии, секретарей Союза и совковых творцов литературных журналов.
В итоге я попал на еще более надежный крючок чекистов, чем был огорчен не особо, если не доволен.
Александр Иванов впоследствии, прочитав мои пародии, сказал:
– Это не пародии, и на пасквили не похоже. Но здорово!
Их не так много сохранилось – приведу парочку.
Про любовь мне сладкий голос пел…
М. Ю. Лермонтов
Поселок назывался Огаревкой,
Стоял себе, невзрачен, невысок.
Я там шахтером был, но с оговоркой,
Что это длилось, в общем, малый срок.
Ходил потяжелевшею походкой,
Не торопясь… Костюм себе купил.
Беседовал о щитовой проходке
И выдержку суровую копил.
А в шахте перекатывались гулы.
Был светлый день за тридевять земель.
Мне хмурого угля виднелись скулы,
Меня кропила черная капель.
Там, сверху, даль плыла под парусами,
Я знал: там листья синий ветер пьют.
И как бы слышал – наверху, над нами
Шумят леса, созвучия поют…
А в шахте перекатывались гулы.
Был светлый день за тридевять земель.
Мне хмурого угля виднелись скулы,
Меня кропила черная капель.
Тем, сверху, даль плыла под парусами,
Я знал – там листья свежий ветер пьют.
И как бы слышал: наверху, над нами,
Шумят стихи, созвучия поют…
И укрупнялись местные событья.
И я вопросы вечные решал.
Я засыпал в шахтерском общежитье
И все, что под землей творится, знал.
Мне снился сон, теперь полузабытый:
В глубокой шахте, в тишине живой
Я сплю, теплом неведомым укрытый,
И, точно голос, слушаю покой.
«Поселок назывался Огаревкой…»
Поселок назывался Огаревкой.
Он был, что называется, задворкой.
Стоял июль. Да, дело было летом.
Я стал шахтером, чтобы стать поэтом.
Я стал ходить тяжелою походкой,
Для нужных встреч костюм себе купил.
Беседуя о щитовой проходке,
Я выдержку суровую копил.
Так, с оговоркою, что ненадолго,
Я променял на шахту белый свет…
Как и предполагал я – не без толку:
Теперь я всеми признанный поэт.
Всем, кто страдает жаждой рифмоплетства,
Я дать могу полезнейший совет:
В поэзию приходют с производства —
Для дураков другой дороги нет!
Так поздно мы на крышу вылезли,
В провалах зыбились огни…
Зачем сюда мы речи вынесли —
слова заветные свои?
Пришло же это Сашке в голову —
Лоб вешним духом освежить,
Соприкоснуться с вечным городом:
В открытости поговорить.
Душа дышала незажатая
В туманных шорохах листвы.
И, крону ночи чуть пошатывая,
Мерцал глубокий гул Москвы.
Общежитейское и братское,
Святое чувство доброты
Роднилось с чувством высоты,
Как эти смуглые, бурятские
И эти русские черты.
И в этом весь – в своей манере он:
Мысль тотчас в действие облечь…
Ах, Саня, Сашка… О Мольере он
Вблизи небес заводит речь.
Все о театре, о Сибири он…
Все о Чулимске, о тайге…
Что выразим мы в этом мире,
где каждый миг на волоске!
А свежесть переходит в росность.
Бледнеет млечная тропа.
Так скрытен и опасен Космос,
Так скрытны слово и судьба…
Во времени живыми нитями
Я чутко связан с ночью той:
Сидим. На крыше общежития
Над затихающей Москвой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу