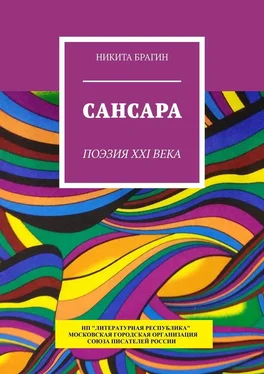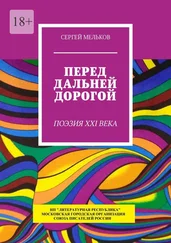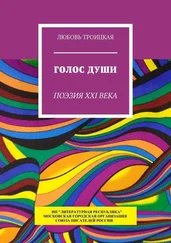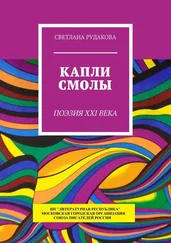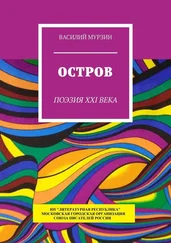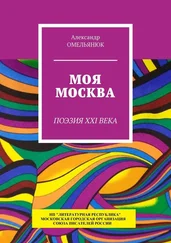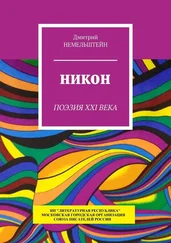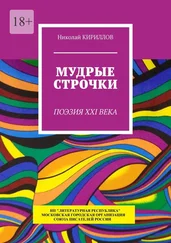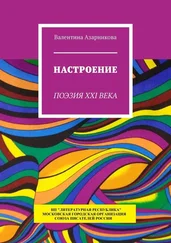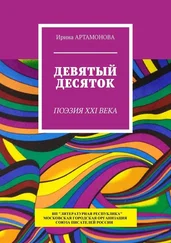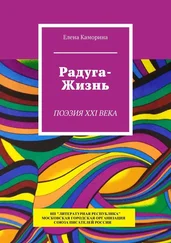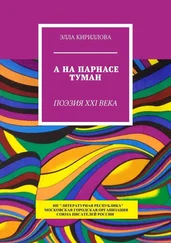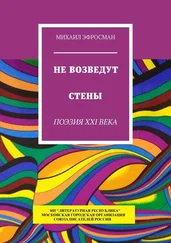В некоторой степени это соответствует русскому тезису «сила в правде». Не власть и богатство, а мудрость и знание. Они важнее для мира духовного. Русский народ упорнее всех других искал правду и мечтал о ней в своих грёзах о Беловодье. Западная Европа между тем всё-таки чаще всего видела в Индии область, где можно обогатиться. Золото, а не мудрость. Яхонты, а не прозрение. Острота пряностей, а не гармония танца. В конечном счёте всё это привело к великим географическим открытиям, в которых Россия не приняла участия (спонтанное и во многом случайное путешествие Афанасия Никитина не стоит учитывать, ведь он почти ничего и не вынес из этого странствия, кроме неумирающей любви к почти что потерянной родине…).
Между тем Европа открыла путь в Индию, и что же? Каравеллы и галеоны, колонизация, внедрение христианства, уже не мирное, как при апостоле Фоме и его последователях, наконец, порабощение страны, давшее повод Чаадаеву наивно утверждать, что у стран Востока (под которыми он разумел в первую очередь Индию и Китай) нет будущего… Но порабощение порабощением, а культура культурой. Как писал Гораций: «Graecia capta ferum victorem cepit» (пленённая Греция взяла в плен дикого победителя). Греческая культура осталась жить в Риме и дала новые прекрасные плоды. А Индия?
Культура Индии странна, экзотична, и этим заманчива падким до всего необычного европейцам. Но понятна ли им? Принята ли ими в своей полноте? Вряд ли. Талантливейший Метьюрин почти половину текста своего огромного «Мельмота Скитальца» посвящает Индии, но это лишь привлекающая внимание ширма, яркая театральная декорация, практически не имеющая ничего общего с реальностью. Бодлер в «Цветах зла» и «Стихотворениях в прозе» тоже обращается к Индии – и вновь это лишь экзотический антураж причудливой смеси пряностей, наркотиков, чувственности, ужаса. Ну, хорошо, Метьюрин в Индии не был, Бодлер до Индии не доехал, но Киплинг – он же родился в Индии, он уроженец Бомбея. Пускай так, но в книгах Киплинга Индия опять-таки лишь некая сцена, где борются и побеждают мужественные и умные европейцы, где индийское, коренное существует лишь в виде какого-то красочного сопровождения драмы, вроде огромного холста с изображёнными на нём горами, джунглями, тиграми и туземцами.
Что говорить, если даже великий Гёте, увлекавшийся в юности «Рамаяной», понимал индийскую литературу всего лишь как собрание сказок, причём сказок грубоватых и нуждающихся в отделке! Возможно, лишь подвиг Рабиндраната Тагора, что первым из неевропейцев стал нобелевским лауреатом, отчасти открыл глаза Европе на огромный континент, на его бескрайние просторы, где безмерны и любовь, и страдание. Но век двадцатый обесценивает духовные достижения, и мысль европейская заплутала в современных версиях физического совершенствования, преодоления кармы, и, в конечном счёте, обретения личного благополучия. Но разве это несла в себе великая Индия?
Россия между тем шла своим путем, вплоть до нового времени продолжая постигать страшные и мудрые образы далёкой страны через наивные средневековые версии повестей о походе Александра, через басни о псоглавцах, о крае света, за которым невесть что. Но в конце XIX века русская мысль тесно соприкоснулась с Индией. Константин Бальмонт, переведя множество древнеиндийских стихов, принёс русскому народу их очарование, причем сделал это бережно, не искажая мелодику и образность далёкой от нас поэзии – и с тех пор индийская литература, как древняя, так и новая, всегда рядом с нами. Она стала особенно хорошо знакома русским читателям в советское время, хотя лишь немногие могли тогда по собственной воле отправиться в дружественную нам страну.
Но ни в предреволюционное, ни в советское время не нашлось русского поэта, который бы принес читателю во всей полноте видение великого континента, как это сделал в своё время Николай Гумилёв, подаривший России образ Африки. Может быть, в прозе Ивана Ефремова выразилась Индия – с большим чувством, даже идеализированно и оттого не совсем полно. Может быть, великая любовь к Индии прозвучала в нескольких стихотворениях Даниила Андреева, верившего, что в предыдущих воплощениях он жил в Индии – и потому он всю жизнь стремился туда, но попасть, конечно, не мог. А я уверен, что он, если бы побывал в Индии, то при своем таланте, несомненно, создал бы прекрасное собрание стихов.
Я не мистик, не духовидец, как Даниил Андреев, я человек обыкновенный. Но даже самые обычные люди могут быть одухотворены. Так мирно стоящее дерево начинает петь всей кроной своей под напором могучего ветра. На меня же налетели сразу несколько ураганов. Это жажда поэта, не бывшего никогда в стране своей мечты – и я, оказавшись в Индии, смотрел не только своими глазами, но и взором давно ушедшего в лучший мир Даниила Андреева, которого считаю своим учителем в поэзии. Это пример другого поэта, Николая Гумилёва, воспевшего далёкую от России Абиссинию, сделавшего её образы фактом русской культуры. Это мощь великой и древней цивилизации, звучащей сквозь века и тысячелетия со страниц книг. Это образ огромной страны, в которой мне выпало счастье быть – и не праздным туристом, но тружеником.
Читать дальше