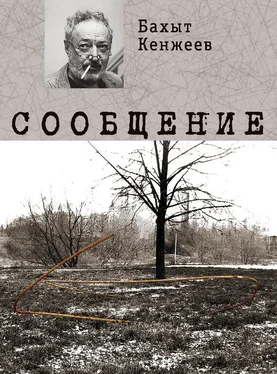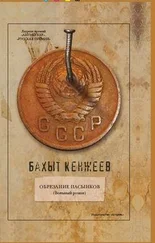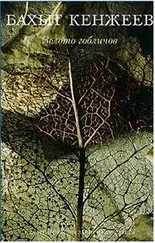Мы с возрастом явно становимся проще.
Все чаще толкает зима
вздыхать о покое, березовой роще,
бегущей по склону холма.
И даже минувшее кажется сущей
находкой, когда у ворот
в заржавленном джипе какой-нибудь Пущин
цыганскую песню поет.
А что ж не в Михайловском? В Северодвинске?
Не спрашивай. Лучше налей
за то, как судьбу умолял Баратынский
не трогать его чертежей,
как друг его лучший, о том же тоскуя,
свалился, чудак-человек,
последним поэтом – в пучину морскую,
звездой – на мурановский снег.
В вермонтском безлюдье, у самой границы
с Канадой, где кычет сова
о том, что пора замолчать, потесниться,
другим уступая права
на вербную горечь, апрельскую слякоть,
на черную русскую речь —
вот там бы дожить, досмеяться, доплакать,
и в землю холмистую лечь…
Век обозленного вздоха
(1987—1989)
«Говори – словно боль заговаривай…»
Говори – словно боль заговаривай,
бормочи без оглядки, терпи.
Индевеет закатное зарево
и юродивый спит на цепи.
Было солоно, ветрено, молодо.
За рекою казенный завод
крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдает
до сих пор – но ячмень перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.
Скоро, скоро лучинка отщепится
от подрубленного ствола —
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,
холодеющий ночью анисовой,
догорающий сорной травой —
все равно говори, переписывай
розоватый узор звуковой…
«Дворами проходит, старьё, восклицает, берем…»
Дворами проходит, старьё, восклицает, берем.
Мещанская речь расстилается мшистым ковром
по серой брусчатке, глухим палисадникам, где
настурция, ирис и тяжесть шмелей в резеде.
Подвальная бедность, наследие выспренних лет…
Я сам мещанин – повторяю за Пушкиным вслед,
и мучаю память, опять воскресить не могу
ковер с лебедями и замок на том берегу.
Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнемся не глядя, я тоже к потерям привык,
недаром всю юность брезгливо за нами следил
угрюмый товарищ, в железных очках господин.
Стеклянное диво, лиловый аптечный флакон
роняя на камни, медяк на ладони держа —
еще отыщу тебя, чтобы прийти на поклон —
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа…
«Век обозленного вздоха…»
Век обозленного вздоха,
провинциальных затей.
Вот и уходит эпоха
тайной свободы твоей.
Вытрем солдатскую плошку,
в нечет сыграем и чет,
серую гладя обложку
книги за собственный счет.
Помнишь, как в двориках русских
мальчики, дети химер,
скверный портвейн без закуски
пили за музыку сфер?
Перегорела обида.
Лопнул натянутый трос.
Скверик у здания МИДа
пыльной полынью зарос.
В полупосмертную славу
жизнь превращается, как
едкие слезы Исава
в соль на отцовских руках.
И устающее ухо
слушает ночь напролет
дрожь уходящего духа,
цепь музыкальных длиннот…
«Не горюй. Горевать не нужно…»
Не горюй. Горевать не нужно.
Жили-были, не пропадем.
Все уладится, потому что
на рассвете в скрипучий дом
осторожничая, без крика,
веронала и воронья,
вступит муза моя – музыка
городского небытия.
Мы неважно внимали Богу —
но любому на склоне лет
открывается понемногу
стародавний ее секрет.
Сколько выпало ей, простушке,
невостребованных наград.
Мутный чай остывает в кружке
с синей надписью «Ленинград».
И покуда зиме в угоду
за простуженным слоем слой
голословная непогода
расстилается над землей,
город, вытертый серой тряпкой,
беспокоен и нелюбим —
покрывай его, ангел зябкий,
черным цветом ли, голубым, —
но пройдись штукатурной кистью
по сырым его небесам,
прошлогодним истлевшим листьям,
изменившимся адресам,
чтобы жизнь началась сначала,
чтобы утром из рукава
грузной чайкою вылетала
незабвенная синева.
«…не ищи сравнений – они мертвы…»
…не ищи сравнений – они мертвы,
говорит прозаик и воду пьет,
а стихи похожи на шум листвы,
если время года не брать в расчет,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу