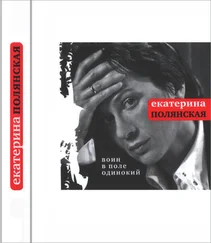На целых полчаса забуду
Жужжание обид и бед:
Немытые полы, посуду,
Неприготовленный обед.
Свободе больше не переча,
Так бесконвойно задышу,
Что словно полечу навстречу
Рифмованному миражу,
И, обретая душу жи́ву ,
Иные слыша голоса,
Я стану наконец счастливой —
На полчаса, на полчаса.
«Здесь никто никого не жалеет…»
Здесь никто никого не жалеет.
За привычною гладкостью фраз
Нелюбовь уголёчками тлеет
В глубине этих выцветших глаз.
Здесь никто никому не поможет
И с пути своего не свернёт.
Только цену твою подытожит
Равнодушное щёлканье счёт.
Здесь чем ты холоднее, тем круче…
Но ведь кто-то шепнул мне: «Живи
Со своим бесполезным, певучим
И мучительным жаром в крови!»
В нелогичном, непознанном мире,
Где всей жизни на вздох или взмах,
И слеза тяжелее, чем гиря,
На божественно-шатких весах.
«И вновь запела скрипка у метро…»
И вновь запела скрипка у метро
О чём-то мимолётном и печальном,
Ненужном, неоплаканном, случайном —
О гулкой бесприютности дворов,
О стихнувших шагах твоих, о том,
Чему уже вовек не повториться,
О стёртых именах, забытых лицах,
О доме, предназначенном на слом.
Я не хочу ни знать, ни вспоминать.
Скрипач, прошу тебя, смычка не трогай —
О безнадёжной хрупкости земного
Земному не спеши напоминать.
Да и мотив затаскан, полужив,
Как с времени полученная сдача…
А я над ерундою этой плачу,
В пустой футляр червонец положив.
В ворота
с нетерпеливым урчанием
врываются грузовики,
чтоб после,
взрёвывая от натуги,
переваливаясь и оседая,
словно бы озираясь,
ползти потихоньку обратно.
Из-под их бортов
сочится капля за каплей,
течёт по асфальту,
струится
сухая кирпичная кровь.
За воротами
с лязгом и скрежетом
огромная челюсть
жадно вгрызается
в тёмно-красную плоть,
в бесстыдно разодранные,
вывернутые наизнанку
потроха перекрытий.
Рушится всё.
В грохочущем воздухе виснет
красно-бурый туман,
мелькают чёрные тени.
Азарт разрушения
перерастает в экстаз,
почти что в истерику.
Слитный
механический вопль
раскаляется до нестерпимого визга
и обрывается.
В обморочной тишине
среди праха осевшего,
среди мёртвых обломков
кирпича и железа
заводская труба
отчаянно тянется к небу.
А в окна
последней стены,
отделяющей
одну пустоту от другой,
удивлённо заглядывает
осколок лазури.
«Неужели и меня не беды…»
Неужели и меня не беды
Источили, но обычный быт?
Неужели тихую победу
Одержала мелочность обид?
Неужели жизнь меня догнала?
Так легко берущая разбег,
Неужели это я устало
Не смотрю из-под набрякших век,
Но украдкой, как-то воровато,
Взглядываю в небо, где горя
Отражённым пламенем заката,
Плавится осколок фонаря?
Неужели я за чашку чая,
За кусок из общего котла,
Перемен в себе не замечая,
Право первородства продала?
«Падаю слётком из обжитого гнезда…»
Падаю слётком из обжитого гнезда
Не зная куда —
К небу, или же камнем – вниз…
«Вернись! Вернись!» —
Кричит, в комочек сжавшись, душа.
Почти не дыша,
Падаю.
А всему виной
За спиной
Крылья – им не терпелось в полёт.
И вот
Падаю, моля их, чтоб не подвели —
Раскрылись у самой земли.
«Тщетно отряхиваясь от бытовой шелухи…»
Тщетно отряхиваясь от бытовой шелухи,
Кажется, в ночь с воскресенья на понедельник,
Я поняла, что рай – это место, где можно писать стихи
И никто не подумает даже, что ты – бездельник.
Там, в раю, моя фляжка всегда полна
Свежей водой, и, что особенно важно,
Там для меня есть время и – тишина
И карандаш, как посох в пустыне бумажной.
Можно идти, оставляя чуть видный след,
Вырвавшись из коридоров и кухонь душных…
Самое главное: там начальников нет —
Добрых, злых, жестоких, великодушных.
И вот, когда недожаренные петухи
Готовятся клюнуть, ибо в окне – светает,
Я думаю, рай – это место, где можно писать стихи,
Подозреваю, что там их никто не читает.
«Отец мой был похож на волка…»
Отец мой был похож на волка —
И сед, и зол, и одинок.
Лишь на руке его наколка —
Раскрывший крылья голубок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу