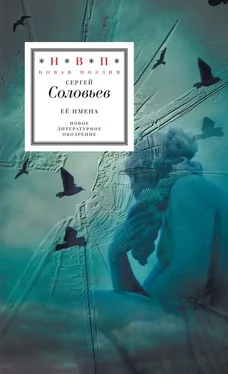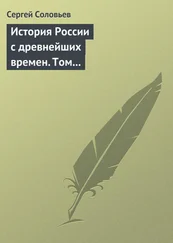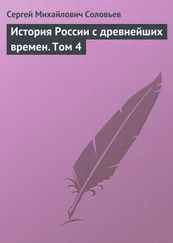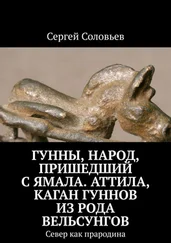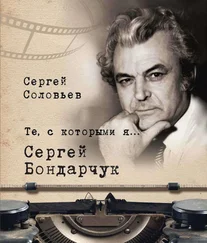Летят, как порванные письма.
Ползут и давятся любовью.
А осьминог – он просто сердце
без ничего и никого.
Какой-то сбой бредет в природе
вещей, похожих на людей,
где женщины совсем не предназначены
мужчинам.
И мирозданье каракатицы мигает,
и в схиме материнства умирает.
А он ее всё катит, скарабей,
как землю, как судьбу, вниз головой.
«Фотон не ходит в детский сад…»
Фотон не ходит в детский сад.
Ни времени, ни расстояний нет
для ангелов, – Фома сказал.
Такой расклад.
И в этом смысле все они – один,
одновременно, в каждой точке
пространства.
А попадая в глаз,
он преломляется и создает картинку.
Ты вся из бога состоишь.
И за околицей тебя – повсюду он
как ты.
Расхожий материал вселенной.
Я чувствую губами, языком
все десять тысяч миллиардов
его – в твоем сосочке. Таково
его вращение в секунду
в каждой точке.
И в пупке,
и ниже – там, невдалеке.
И влажный свет. Как импульс и волна.
Но не измерить жизнью эти два…
А может, ходит.
Ростом – ноль,
и весом столько же. Вот бог,
лишь скорость выдает его —
незрим, но поле зренья.
И направление движенья —
к тебе и от тебя,
и вновь к тебе,
которой там уж нет,
как и меня,
но длится взгляд
и тмится дом.
Так возникают подозренья.
И сад планет,
куда наш мальчик вышел босиком.
«Лицо ее – колеблемый мираж, грудь приоткрыта, караваны…»
Лицо ее – колеблемый мираж, грудь приоткрыта, караваны
плывут в соске ее. Суров пейзаж. И перекинуты между горбов
невольники. Подумал вдруг: сокурсник Шнитке – Караманов,
жил в Симферополе, в пародонтозном дворике, свой кров
искала музыка в семи оркестрах, играющих одновременно.
Но где ж их взять? Возможно, меж прямым, слегка змеиным
взглядом и уголками губ, едва приподнятых ее. Равенна,
я сказал? И нет, родней. И непреодолимей нет. Но имя —
в молчании семи оркестров. И еще подумал, что сближенье
с нею – боковой скользящий ход змеи с бархана на бархан,
как иероглиф, пишущий песок и жар. И замерла. По шею
скрылась. Еще движение – и нет ее. Лишь мотылек порхал
над язычком раздвоенным. И вспыхивал. Как зеркальце.
Сближения. Их сброшенная кожа. Надрывы в уголках
родных, казалось, губ, измученных сближением. И светится
лицо ее, темнея, молодея, и семь песков играет на губах.
«Разведчик встреч сознания и речи…»
Разведчик встреч сознания и речи…
Сознания? Скажи: глухонемых
невольниц
и демонов, сходящих к ним.
Скажи еще: их встреча —
круженье мельниц.
Огни, скрещения, разметчик…
Ну как тебе в раю, Иероним,
под кистью ангельской живется?
Не кисть, а песнь.
Когда б еще лицо…
Но их не пишут здесь.
А там – бог знает кто
стоит с яйцом в руках,
от света отделяя солнце,
как от белка желток.
В словах
развей мой прах,
в их небе, мой герой,
предатель мой, разведчик,
скажи еще: «сынок» – пока не вечер,
играй, играй
с богооставленной единокровной речью
в меня – как в исаака и овечку,
и дальше – в край
преображений
и невстреч.
«Как же оно происходит – падаешь из окна, летишь…»
Как же оно происходит – падаешь из окна, летишь,
и в то же время в женщину входишь, как в тишь
голос, который кажется не твоим, а потом в стороне
от себя они расплетаются и звучат на чужом языке,
а ты всё летишь, и в то же время где-то идешь, и вот,
казалось бы, ты, то есть тот, кто эту жизнь живет,
но он сейчас не совсем с тобой, а во тьме стоит,
обхвативши дерево, но и это – так и не так: летит,
а точнее, восходит он, и она отпускает его, едва
не встречаясь глазами с тем, кто падает из окна.
«Кто может «я» сказать …»
Кто может «я» сказать —
вокзал?
Там где-то комнаты для спящих.
Как людей. Связать
два слова.
Мы умираем набело.
С козлиной песней.
Не ночь, а черный ящик
под мышкой ангела.
Кто может «я»,
тот «ты» не может.
Хоть в жизнь оденься.
Да, Вагинов?
Не мир – тату
на божьей коже.
Связал,
и спит. Как в летке —
еньке. И дерево в саду
похоже на вокзал.
И мальчик там на пригородной ветке
сидит и по слогам читает красоту.
«Бедуин языка, я бы шел между маленьких голых…»
Бедуин языка, я бы шел между маленьких голых
аравийских холмов твоей светом залитой груди,
и ладонь моя где-то за жизнью, размывом пути
уходила в лицо твое, как в заполярье монголы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу