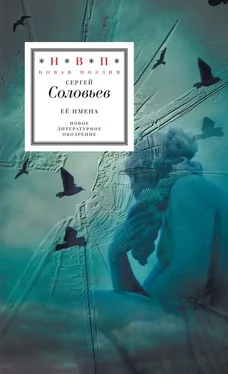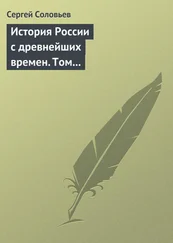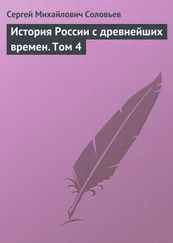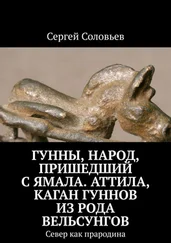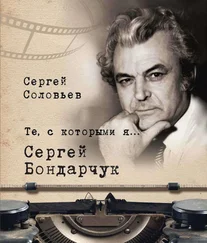Надо б совсем от любви оглохнуть,
как за соломинку ухватившись за эту клавишу,
как-то вывернуться из себя, говорящего, отлетающего
с камешком под пятой.
«Ходить в слова, как в лес…»
Ходить в слова, как в лес.
И понимать едва ли —
где лес, а где слова.
Все меньше
надеяться на жизнь —
свою, уже ничью.
Да и не жизнь, а что-то рядом,
round —
about.
И смерть, похоже,
такой же будет:
ближе
всего на свете,
и так же к нам спиною,
как и всё.
Скажи себе
(кому и чем? Слова —
двуногое ума, такой же голем,
как в сердце бог):
печаль моя светла.
И повтори.
И что-то там про поле.
Но даже если ты, а не они, подобье —
крест не меняется от перемены мест.
Не быть, и не с ума
сойти, твой посох ищет «или».
Удел счастливцев,
взысканных свободой
и детской горечью.
Лежи теперь, как демон,
низринутый в себя,
и переписывай —
все лучше, все больней, до слепоты,
едва ли понимая,
что здесь не ты, не жизнь,
а что-то рядом…
«Смотрю, как будто это не глаза мои…»
Смотрю, как будто это не глаза мои,
а что-то от меня отдельное,
и то, куда глядят, отдельно от того,
что видимо: от неба, дома, дерева,
и думаю о феном е не расстояний,
о лабиринте воздуха без сердца и окна,
о тьме матрешечных миров меж нами,
о времени, его змеиных свадьбах
с пространством, о живых, незримых
ризомах, в которые уходит взгляд,
не ведая ни их, ни где он, ни того,
что происходит с ним, о произволе
божественном и дьявольском законе
между деревьями, людьми, дождями,
словами, чувствами, о веществе едином,
их образующем, об ангелах кромешных
на призрачных галерах расстояний,
о маленьком блуждающем театре,
играющем в проеме взгляда
сокрытую от зренья драму,
где вся история земная —
не больше мышеловки.
Смотрю в лицо свое —
как жгут листву,
и взгляд висит как дым,
и тает кисея.
«Я живу с собой, как с тварью…»
Я живу с собой, как с тварью,
неизвестной мне, за дверью
ходит, водит, за язык
тянет, бог, отец мой, сын,
он творит меня из петель
немоты, из междометий
между телом и не телом,
шьет крестом, чтобы летело,
я живу с собой, как демон
с той тамарой, только где он,
был он весь, как вечер ясный,
дверь стоит и точит лясы
с ветром, эта дверь без дома,
я живу с собой, потомок
с пращуром, где между нами
лишь бумага, нож и камень,
на котором мать-природа,
как словарь для перевода
с полумертвых языков,
вяжет свой чулок из слов,
и с травой во рту, как зверь,
нас по кругу водит дверь.
«Я разглядываю следы эволюции…»
Я разглядываю следы эволюции,
нашего т. н. естественного отбора —
в речи, в чувствах, во всем, что дышит.
Разные тут стратегии – притвориться,
к примеру, мертвой. Иль божьим даром,
чтобы пахли Торой твои подмышки.
Любовь играет и слепнет в танце:
кто с ней от сердца – отнимет сына,
кто усомнится – подложит агнца.
А между делом – почти парсуна.
Кто выживает в таком отборе,
в сухом остатке что остается?
Какая жажда жизни на водопое
у пошлости. Не расхлебаться.
«А потом они изменяют своей природе…»
А потом они изменяют своей природе:
женщина изливается в смерть,
а в мужчину смерть входит.
Важно, с кем вступаешь там в отношенья.
Белое мутное всё, как сперма.
Спазмы преображенья.
Или ключ бренчит, иль река в кармане.
Солнце змеится сквозь эту муть
или ты, родная?
Не обознаться б, но как и чем, если
ни лица, ни памяти, ни души:
вот весь ты.
Надо бы вот что.
Прекратить жить своей жизнью, изживать себя.
Создать паузу, некое воскресенье.
Пусть этот другой ты, оставаясь на вашем общем коште
судьбы, сойдет с твоей карусели.
Пусть попробует то, что тебе не свойственно
или вообще не дано, помоги ему,
оставаясь на расстоянии взгляда, руки, этой выжимки
света… Пусть он потом расскажет – тот, под твоим именем,
тот, кто из вас выживет.
«В тихом мюнхенском дворике у реки…»
В тихом мюнхенском дворике у реки
лежат камни: на спине, на боку, лбом в землю.
Маленький, брошенный, безутешен,
всего ничего ему: 35 млн. лет.
Ах люба, зачем это с нами случилось?
«Летят, как порванные письма…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу