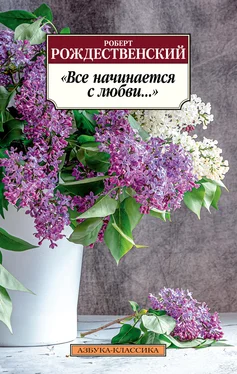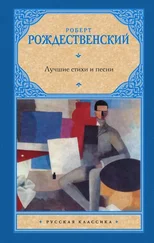Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.
Я —
сын Веры…
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.
Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.
Я – сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера…
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
мама Вера.
Я —
сын Веры.
Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера…
И просила в письмах
писать только правду
мама Вера…
Я —
сын Веры!
Веры не в Бога,
не в ангелов, не в загробные штуки!
Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!
Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.
Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню
перед расстрелом!
Я —
сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.
Я —
сын веры в Завтра —
такое,
какое хочу я!
И в людей,
как дорога, широких!
Откровенных.
Сто́ящих…
Я —
сын веры,
презираю хлюпиков!
Ненавижу плаксивых и стонущих!..
Я пишу тебе правду,
мама Вера.
Пишу только правду…
Дел – по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.
Не привез я таежных цветов —
извини.
Ты не верь, если скажут, что плохи
они.
Если кто-то соврет,
что об этом читал…
Просто
эти цветы
луговым не чета!
В буреломах
на кручах
пылают жарки,
как закат,
как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем
городского
стола.
Не для них
отшлифованный блеск
хрусталя.
Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода…
Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь,
и кажется,
руки в крови!..
Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи.
Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той,
таежной,
неласковой,
гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы,
начинают стремительно вянуть
цветы!
Сразу гаснут они.
Тотчас гибнут они…
Не привез я
таежных цветов.
Извини.
«Нахохлятся тяжелые колосья…»
Нахохлятся тяжелые колосья
по всей земле,
размякшей и огромной.
Потом настанет осень.
Хлынет осень,
сиреневым морозом
травы тронув.
И длинный дождь,
с три короба наплакав,
лесную чащу с головой накроет,
разлапистые листья покоробит…
Опавшие,
в оранжевых накрапах,
они цветным пластом на землю лягут
и будут глухо чавкать под ногами.
И вспоминать
о светлом птичьем гаме,
о месяце грибов и спелых ягод…
И медленное солнце будет таять.
И незаметно
удлинится время.
И в сотый раз
я не смогу представить,
как выглядят
июньские деревья.
Отволнуюсь.
Отлюблю.
Отдышу.
И когда последний час
грянет, звеня, —
несговорчивую смерть попрошу
дать пожить мне.
Хотя б два дня.
И потом
с нелегким холодом в боку —
через десять тысяч
дорог —
на локтях,
изодранных в кровь,
я сюда
себя
приволоку!..
Будет смерть за мною тихо ковылять.
Будет шамкать:
«Обмануть норовишь?!»
Будет, охая, она повторять:
«Не надейся…
Меня
не удивишь…»
Но тогда я ей скажу:
«Сама смотри!»
И на Ниду,
как сегодня,
как всегда,
хлынут
бешеные краски зари!
Станет синею-пресиней
вода.
Дюны вздрогнут,
круто выгнув хребты,
будто львицы,
готовые к прыжку.
И на каждую из них с высоты
упадет
по голубому цветку.
Пробежит по дюнам ветер,
и они
замурлычут,
перейдя на басы,
А потом уснут,
в закат уронив
желтоватые
мокрые носы.
Задевая за тонкие лучи,
будут птицы над дюнами звенеть.
И тогда —
хотите верьте или нет —
закричу не я,
а смерть закричит!
Мелко-мелко задрожит коса в руке.
Смерть усядется,
суставами скрипя.
И заплачет…
Ей,
старухе,
карге,
жизнь понравится
больше
себя!
Не поможет здесь
ни песня и ни ласка.
В доме все воспринимают без обид:
лишь тогда,
когда качается коляска,
мальчик спит…
Слышно:
за стеной соседи кашляют.
Слышно:
ветер снег сдувает с крыш.
Я не знаю,
что врачи на это скажут,
но, по-моему, отлично,
что малыш,
только именем одним еще отмеченный,
примеряющийся к жизни еле-еле,
ничего пока не видевший,
трехмесячный, —
и уже стоянки
не приемлет.
Так и надо —
он увидит страны разные!
Так и надо —
задохнется на бегу!..
Читать дальше