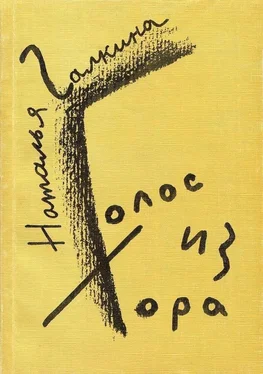Какие-то женщины в мятых платочках сидели,
Авоськи, бидоны, узлы, рюкзаков неуют;
И некто кричал им из позавчерашней недели:
«Любаша, Надюша, Веруня, бегите, дают!»
Свою подхватили поклажу они и пропали.
Дорожные знаки на жести помятой цвели.
Дремал на скамейке ребенок в цветном одеяле,
Дорожки и стежки к ларечкам и будкам вели.
Обертки, бутылки, остатки усеяли почву,
Дремала кассирша в малюсеньком темном окне.
Стоял пассажир пораженный и видел воочью
Тот документальный, которому место во сне.
Стоял монумент кирпичу — темно-красная башня,
Картавый приемник луженую речь щебетал,
Загадочный пьяница спал на газете вчерашней,
Таинственный трезвенник бодро монетки считал.
Часы жестяные висели и зря не ходили,
Глядели с высот на джинсовую деву в цвету.
И тяжкою тенью дорожную пыль холодили
Ряды тополей, оставляя перрон на свету.
Стоял пассажир, промеряя очами округу,
И раковин слуха касались волна за волной.
Но поезд оттуда уже приближался по лугу,
А поезд туда ожидался с вечерней луной.
Еще раз те два окоема успели впериться,
Еще подивился — и вот уже тает вдали.
Ах, стрелочник стреляный, где ты, воробышек-птица,
Виновник и путаник праведной нашей земли?..
«Что за игра — то вслепую, то втемную...»
* * *
Что за игра —
то вслепую, то втемную...
Видно, Земля наша — место укромное,
угол медвежий полуфантастических троп,
где то по лбу, то в лоб.
Сами-то мы — то ли люди, то ль нелюди,
ряженых рой по сугробу из святочных лет,
призраки чьей-то натасканной челяди,
чудь допотопная, имени-звания нет.
Что мы тут мыкаем, в кущах и пущах разбуженных?
Дюж по гужу, пробирается вдаль аноним.
Посвист былин заглушает звон вилок за ужином.
То ли бьют склянки, а то ли бутылки бьют в дым...
Что за театр! —
то салют, то пожарища...
Не по чужим — по карманам своим
не нашаришься
в поисках решки
на алый трамвай,
едущий в рай.
Все мы сударики, субчики, все мы голубчики,
все мы соколики, местная фауна, людь;
ты полюби меня, любушка влюбчива,
ты припади ко мне с горя на счастье на грудь.
Что за дела, моя жизнь?!
То чадит,
то не клеится,
то нам приспичит тонуть, то взбредет полыхать.
Ты полюби меня, сокол ты мой,
помереть-то успеется,
дай мне хоть с поезда или с перрона платком помахать.
Что за околица, граждане, что за обочина,
что за окраина, милые, света, что ль, край?
В небе луна, точно
осьмушка
краюшки
сосредоточена,
посеребрен всякий барак, каждый сарай.
Что за игра, извини, — сами не поняли:
вроде как в жмурки,
может, и в шашки,
может, в буру.
В алом трамвае в рай продвигаемся по миру — по небу;
а на часах
десять часов,
двадцать веков,
тридцать минут,
и часовой на юру.

Не в силах разобраться — где начало,
Принуждена рассказывать с конца.
Итак: по лесу ехала карета.
Итак: был час вечерний, лес сосновый.
Она и он в карете — в париках
Напудренных. Он, как всегда, при шпаге,
Она — рассеянна, бледна, в лиловом.
Он говорит ей:
— Помнишь ли того
Иезуита, что встречал нас в М.?..
Мы с ним беседовали о лекарствах,
Он говорил о средстве от чесотки —
Отвар в моче из пихтовой коры.
Он ошалел, бедняга, от жары,
Все спрашивал меня: «Не надо ль
Тебе какого яду?»
Она молчит и слушает его,
Лицом не выражая ничего,
На руку опершись и глядя грустно,
Как бы стараясь рассмотреть его,
Запомнить ли, улавливая нечто,
Что проступает на щеках, на лбу
Или на вышивке камзола,
Чтобы потом пропасть.
И невпопад:
— Ах, голова болит. Ах, у меня
Она побаливать взялась с тех пор,
Как ты... как я... как вазой я была
Фарфоровой в оранжевый цветочек.
Мне кажется, ты переколдовал!
В окне на облако плеснул огонь
Зари вечерней. И звезда одна
Уже горит в зените. Ночь в пути.
— Ты превращал меня во что попало:
В кариатиду, в яблоню, в опала
Туманный блеск и в чей-то сон чужой.
Сама я не своя среди людей,
Все дни мои смешались, чародей,
Сместились города и страны.
И я теперь доподлинно забыла,
Когда мы встретились?
И где?
Начало — было ль?
Он, с полувздохом:
— Кажется, в саду...
Читать дальше