Как всякая девочка, состоящая из
бутылочных стёклышек, гольфов, бантов,
я каждое утро слетала вниз
по лестнице (пугая кота-педанта,
методично обходящего весь подъезд
для проверки целостности вчерашних меток)
со скоростью, делающей невозможным любой протест.
Меня звало великое множество тайных мест,
а также открытых свету беседок.
Мир был голосист, и я была в нём,
конечно, не самым пронырливым воробьём,
но достаточно шустрым воробышком.
Время тогда не приходило с обыском
для изъятия из памяти лиц просроченных,
а для яблочных пикников хватало друзей, обочины
и старого бабушкиного одеяла.
Но однажды время меня поймало
и сказало:
— Пора и тебе взрослеть.
Сегодня будем смотреть на смерть.
Смотреть не хотелось — там плохо пахло
то, что недавно было двоюродным дедом.
На прошлой неделе он учил меня искусству беседы
и показывал в книжке древнюю драхму,
а сегодня на его глазах лежали медные пятаки.
По дому топали чужие туфли и сапоги,
и день под столом тянулся, как грушевая смола.
После время пошло быстрей, и я много чего смогла:
повзрослела, не наделав критичных глупостей,
но чуть позже дошла до клинической близорукости
от любви с первого взгляда,
соблазнила умудрённого лиса виноградом
стадии восковой зрелости,
а также ещё раз увидела смерть
так близко, что в годы серости
провалилась и принялась неметь.
Как всякая женщина, состоящая из
силы, воли и глупой веры,
я каждое утро слетаю вниз
в ритме зажигательной хабанеры
и улыбаюсь, даже когда болит
ампутированная любовь,
и за это в день любой и в час любой
быт сохраняет привычный вид,
благотворно влияющий на дичающую надежду.
Но время, которое всегда находится где-то между,
смотрит в упор, ухмыляется и молчит.
Есть что-то тягостное в марте
Есть что-то длительное в марте
и запредельное, как смерть.
...Ты нацарапаешь на парте
пронафталиненное «мреть»,
а твой сосед, дурак ушастый,
покрутит пальцем у виска,
и ты, отверженная каста,
зевнёшь.
Вселенская тоска,
что Цезаря душила, может,
в его последний стылый день,
навалится и подытожит:
— К доске!
Превозмогая темь
от неученья душных формул,
взойдёшь Болейн на эшафот,
но грянет, соблюдая норму,
звонок и вновь тебя спасёт.
Сосед, ухмылисто-щербатый,
с печатью тлена на челе,
опять порадует цитатой
о самом древнем ремесле,
но ты с величием матроны
всандалишь в низкий лоб щелбан
и, осчастливив гегемона,
вернёшься в мир фата-морган....
Альбом о прошлом.
Стынь в мансарде.
И больше некуда взрослеть...
Есть что-то тягостное в марте
и неизбежное, как смерть.
Здравствуй, хороший мой — если там,
где ты, дозволяется здравствовать.
Я за семнадцать лет без тебя
повидала немало рек,
приняла воду пяти морей,
провожала закаты багрово-красные
на берегах песчаных и галечных,
где время сдерживает свой бег.
Пересыпала в ладонях песок своей жизни,
в небо смотрела.
Верила.
Много молчала.
Тобой молчала.
Растила детей и слова.
Но ни разу, слышишь, ни разу
гости с другого берега
не сказали мне, мой далёкий,
что я была неправа.
Я вырастала из боли.
С болью перерастала.
Выросла.
Извлекла все горестные уроки
из дней густой тишины.
Научилась не слышать,
приняла неудобную правду за вымысел
и отпустила на волю тобой забытые сны.
Ты вспоминаешь меня, конечно, —
но светлым облаком
обнимает тебя забвение,
и на водах Леты настоян чай.
Я ещё пишу тебе изредка,
отправляя письма с прохожим мороком,
и не жду ответов,
но верю — ты выйдешь меня встречать...
Он был единственным, кто знал меня без купюр,
и лишь ему удавалось вот это протяжное «Ир-р-ка-а»,
и он иногда называл меня дурой,
но чаще сравнивал с Деми Мур
и при этом учил не выглядеть «под копирку».
У моего сына его характер, его глаза,
и хоть они разминулись на десять лет и ещё два дня,
но ребёнок уже настолько мужчина, что умеет сказать
«я люблю тебя» — так, что слова звенят
совершенно в его манере — больших мужчин,
от которых исходит сила и множит свет.
Их всё меньше в мире несостоявшихся величин,
их всё больше там, в разлившейся синеве.
Читать дальше
![Ирина Валерина Вспоминательное [СИ] обложка книги](/books/418481/irina-valerina-vspominatelnoe-si-cover.webp)

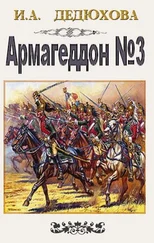

![Ирина Валерина - Сказочки без границ [СИ]](/books/418482/irina-valerina-skazochki-bez-granic-si-thumb.webp)
![Ирина Валерина - Онга [СИ]](/books/418483/irina-valerina-onga-si-thumb.webp)
![Ирина Валерина - Нанги [СИ]](/books/418484/irina-valerina-nangi-si-thumb.webp)
![Ирина Валерина - Когда Шива уснёт [СИ]](/books/418485/irina-valerina-kogda-shiva-usnet-si-thumb.webp)
![Ирина Валерина - Вернуть Эву [СИ]](/books/418486/irina-valerina-vernut-evu-si-thumb.webp)



