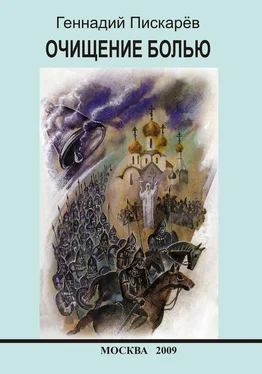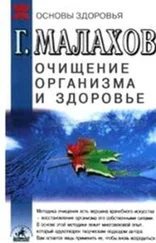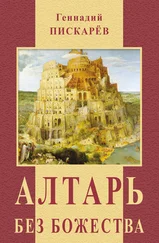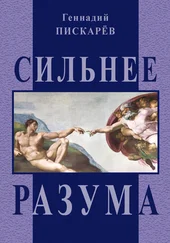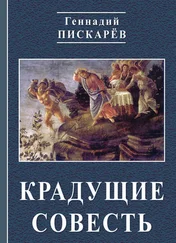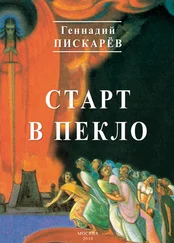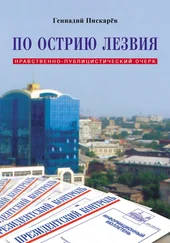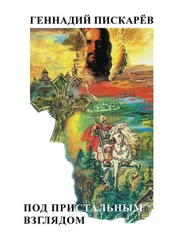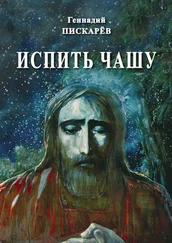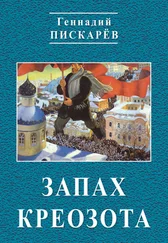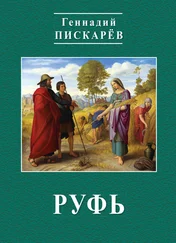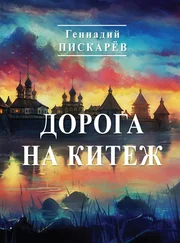А может дело в ином? И правы те, кто говорит, что все произошло в целях укрепления самодержавной власти и становления крепостного права, как естественных потребностей того периода развития страны?
С точки зрения исторической науки, это не было классическим вариантом смены экономической и общественно-политической формаций, но требования к изменению человеческого материала были кардинального свойства. От людей надо было добиться изменения духовных установок, беспредельной веры ни столько в Бога, сколько в правителя.
Не случайно же после этих реформ официальной церковью два с половиной века управлял не патриарх, как лицо духовное и хотя бы формально независимое от светской власти, а обер-прокурор, как государственный чиновник, подчиненный правителю страны, почитаемому помазанником Божьим. И не случайно, наверное, некоторые старообрядцы утверждают, что старая вера позволяла людям ощущать себя детьми Божьими, а новая требовала быть рабами.
Если эти утверждения верны, то все становится объяснимо: смена или подобие смены общественно-политических формаций выдвигало задачу смены идеологии, носительницей которой тогда была церковь. В результате церковь и тогдашний ее патриарх вольно или невольно выступили инструментом объективных исторических процессов. И избежать этой роли вряд ли могли. Смена идеологии, в свою очередь, столь же неизбежно ведет к общественным конфликтам, в которых всегда найдется место и жестокости, и жертвенности.
Но, с другой стороны, если все так, то, по логике, давно должен идти обратный процесс. В стране с тех пор уже несколько раз менялись общественно-политические и экономические формации. И теперь, если верить официальным заявлениям властей, нужна идеология, формирующая человеческий материал, обладающий теми свойствами, которые позволили бы стране развиваться. Проще говоря, нужны люди, ощущающие себя теми, кого называют «детьми Божьими». В переводе на светский язык – свободными, сильными, инициативными, ответственными.
Увы, православие, судя по всему, оказалось не готово к этому. Новых реформ, предлагающих народу новую идеологию, отвечающую потребностям эпохи, в нем нет. И, похоже, не предвидится.
Получается, что российские церковные и государственные деятели XVII-го века глубже их сегодняшних коллег понимали текущий момент и его задачи. Они, конечно, действовали грубо и поспешно, но так, как требовала жизнь, как подсказывала потребность укрепления и развития государства. Их беда в том, что они не смогли предвидеть очень важного: свободного человека превратить в раба легче, чем проделать этот путь в обратном направлении. Не смогли они предвидеть и того, что церковные и государственные институты так закостенеют под влиянием рабской философии и психологии, что потеряют всякую способность откликаться на требования времени. Эти институты, в лучшем случае, будут приспосабливаться к таким требованиям, не меняясь, по сути.
Впрочем, те, кто обладает властью, похоже, редко способны заглядывать за исторический горизонт и мерить свою политику человеческой мерой, то есть, теми качествами, которые могут обрести люди в результате их политики. Они, обычно, решают одну текущую историческую задачу: или победить врага, или укрепить государство, или восстановить экономику, или еще что-то…
Даже две подобные задачи вместе им не всегда по силам. Где уж там заглядывать через века и закладывать основы будущего страны в его человеческом – духовно-нравственном, идеологическом, ментальном, как теперь говорят, смысле.
Короче, пращуры, затеявшие тогдашние церковные реформы, не были так глупы, как кажется. Но нам, своим потомкам, они оставили больше загадок, чем дали понимания, создали проблемы, решать которые, похоже, придется еще ни одному поколению. И не факт, что удастся.
Ведь государственные институты сегодняшней России находятся не в лучшем, в смысле готовности дать людям новую идеологию, положении, чем церковные. Правда, не только по причинам исторически сложившейся закостенелости, но и по современным правовым нормам, заложенным основателями «новой России».
Поэтому не удивительно, что одновременно и успешно, как считается, решая задачи экономического и социального развития страны, укрепления государства, власти страны не могут толком сформулировать, какого результата хотят добиться в том, что измеряется мерой, которую мы назвали человеческой. По крайней мере, в таком документе, как «Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации», принятом правительством страны, нет ничего о том, к чему и для чего эта политика проводится. Лишь про книжки для детей и молодежи говорится, что требуется создание тематических изданий «воспитывающих патриотизм, развивающих творческие способности, идеологию успеха и созидания». Большего написать было нельзя. Авторы и так разгорячились. Конституция России (статья 13) запрещает государству иметь какую бы то ни было идеологию. А, значит, и развивать ничего такого государству не положено.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу