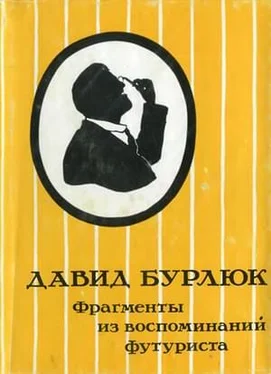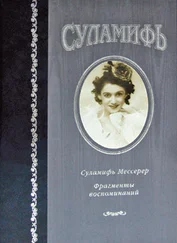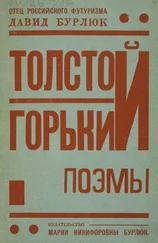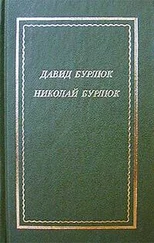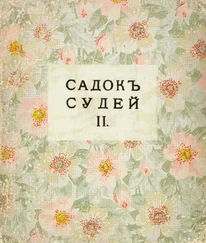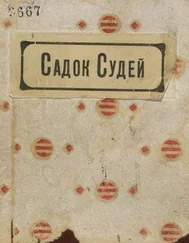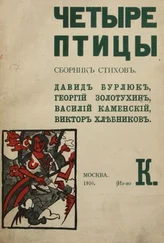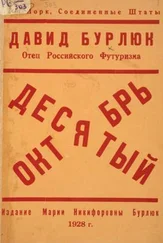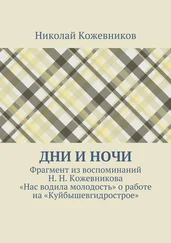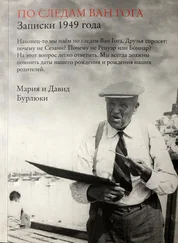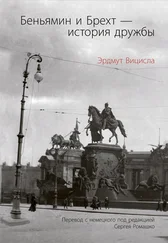Чтобы закончить наше рассуждение о литературе, надо указать, что практическое использование средств языка не означает невозможности бытия слова в состоянии, когда оно под пером поэта живет, трепещет, видоизменяется во имя… эстетических целей. Является настоящей литературой, как видим это в самых лабораторных созданиях В. Хлебникова…
Пролетариат, как хозяин жизни, как высший рулевой творческих дней, не может и не должен сводить понимание искусства лишь к точке зрения практического смысла. Для пролетариата это означает – остаться без искусства.
Эстетическая культура, так же как и физкультура, в этапах своих работ будучи якобы лабораторными и лишенными практицизма, являются на самом деле теми мастерскими, где способен выковаться сверхчеловек, сверхгражданин великой Социальной Родины, Советского Союза. Ибо без эстет-культуры невозможно развить в разительном масштабе психические и физические задатки будущих коммунаров грядущей мировой коммуны.
Здесь-то и лежит разъяснение всех современных недоразумений с изобразительными искусствами, что наблюдаются в настоящее время в Советском Союзе. Когда поднят вновь, после английских рационалистов, после базаровщины, после Писарева (врага Пушкина) вопрос о «необходимости быть полезным». О классовом пролетарском революционном искусстве. Искусство живописи является революционным по своим новым, ранее не виданным формам. Искусство, зачатое Сезанном, Гогеном и Ван Гогом, явилось предвестником победы пролетариата над царизмом и капитализмом в России. Оно означало освобождение от академической указки. Оно являлось демонстрированием искусства как органического процесса. Живопись, отображая человеческую природу, поскольку ее отображает каждый автограф, далее, в композиционных произведениях, перешагнув через портретную живопись, приходит к изображению сцен как исторических, так и современных дней.
Защитники утилитаризма в живописи революционного классового искусства, чересчур узко и ограниченно понимаемого, способны между тем всю живопись, им необходимую, втиснуть в рамки этого последнего отдела композиций массовых сцен. Они требуют от художника революционной работы для пролетариата, понимая живопись лишь с точки зрения революционного сюжета. Мы не отказываемся от этой задачи. Но такое искусство – лишь часть, отдел живописи.
Несомненно, пролетариат на железобетонных, мраморных стенах рабочих дворцов эстет- и физкультур должен получить великие произведения фресковой монументальной категории изобразительных искусств. Но нельзя сводить понимание искусства лишь к одному сюжету. Так понимают живопись только глядящие на нее из слухового окна литературы. Со страниц социального романа или же эпической повести революционных дней.
Поле каждого искусства чрезвычайно широко, и если вы искусство понимаете, любите и заботитесь о его развитии, то вы должны дать возможность художнику не быть вашим подчиненным, а быть инструктором, развивающим в вас новый вкус. Об этом говорил еще Сократ: он указывал, что государственные деятели, обыкновенно, не разбираются в искусстве. Да с них никто не может и требовать этого. Они-то сами редко на это и претендовали. Их занимали другие задачи. Им было не до вопросов эстетики. Но нельзя опираться на это слабое место вождей наших дней… Эго – вредно: невыгодно.
Даже если понимать великое, монументальное искусство прежних эпох как синтез, где форма и содержание были слиты воедино. Если даже согласиться на этот элементаризм и вспомнить, что на стенах Персеполиса дух государственного милитаризма и мифологии религиозной нашел свое увековечение, если создания на стенах средневекового Ватикана, продолженные кистями великих мастеров Ренессанса, отобразили мировой стык итогов древних культур и роскоши и просвещения новых дней, докатившихся в эволюции роста вселенского разума до пышности, богатства, расцвета гордых цветов культуры, если перечислить из истории живописи все подобные моменты синтезирующих взлетов этого искусства. Люди, которые понимают только сюжетное искусство, искусство массовых социальных сцен, – подобны способным восхищаться яблочным пирогом, но не желающим ничего знать о культуре яблоневых деревьев, глухим своим носом к ароматам цветущих фруктовых садов, забывшим о густых тенях, бросаемых листвой яблони: подобны кричащим о части жизни яблоневых садов, об «апэл-соусах». Не знаю, как для других, для меня самого так ясны эти параллели.
Читать дальше