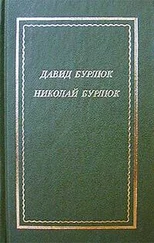Весной у меня гостили Исаак Бродский, Мартыщенко, Орланд, Овсяный; моя сестра Людмила, запершись в отдельной комнате, раздевала крестьянских девушек и писала с них этюды в натуральную величину. Загорелые бронзы тел, крепкие «осторожные» ноги деревенских венер. Мы завидовали ей.
Осенью я уехал за границу и поступил в Мюнхенскую академию художеств в мастерскую профессора Вилли Дица. Но так как я был в Баварии один (познакомился с Пискуновым), то через два месяца, затосковав, вернулся в «Золотую Балку», где бесконечно работал всю зиму и весну. Летом 1903 года приехал туда окончивший уже Казанскую школу Гермоген Цитович, и мы – я, мой брат Владимир и Цитович – уехали учиться живописи в Мюнхен.
Цитович влюбился в Пинакотеке в портрет какой-то дамы: стонал по ней день и ночь, и когда потом после месяцев работы в школе Ашбэ (Ашбэ восхищался мной, показывая мою работу всем учащимся, называл «прекрасной дикой степной лошадью») мы уехали, к весне, учиться в Париж, то Цитович все еще оставался в Мюнхене, ежедневно ходя на свидание со своей возлюбленной, воплощенной на плоскости холста: с красавицы возлюбленной своей он решил сделать копию, чтобы хоть в таком виде увезти необычайную даму сердца в свои киргизские, башкирские ковыльные степи.
В 1904 году вспыхнула русско-японская война. Цитовича, воевавшего еще ранее с «большим кулаком» в Китае, вновь забрали на Манчьжурский фронт, и это ускорило также и наш отъезд из Парижа, где мы прожили только до июля (1904 года).
Я должен здесь указать, что если Третьяковскую галерею я впервые увидел в 1897 году, то эти годы до
1904 года проходили в моем творчестве под знаком Шишкина, Куинджи и Репина, слегка Серова.
1904 год в Париже для меня – год Курбэ и Мориса Дэни. Влияние Курбэ было на меня громадно. Я восхищался холодностью Давида, но недостаток зрения моего всегда увлекает меня в сторону более живописного самовыражения.
В 1904 году лето мы живем в Херсоне и один месяц в Алешках. Мой отец опять без работы. Но уже к весне
1905 года он находит место в имении «Нагорная» Полтавской губернии, около Константинограда. Владельцы – крепостники и отъявленные черносотенцы Бискунские.
Работаем здесь: я, Владимир, Людмила и наша матушка, в четыре кисти… Без конца… Неустанно пишу портреты со своей матушки. По целым дням пишу пейзажи: это лето 1905 года должно быть отмечено созданием ряда уже доведенных до известного выявления «законченности» пейзажей Украины. Позже с выставки в Одессе «2-й Салон Издебского» 1911 года большинство работ этих было продано.
Это время в моей живописи отмечено отчаянным реализмом. Каждая веточка, сучочек, травка – все выписано. В смысле колорита стараюсь подгонять цвет так, чтобы на расстоянии он вполне совпадал с натурой. До этого лета у нас практиковалось писать этюды на одном и том же холсте, один поверх другого, «для практики»: только что законченный этюд снимался ножом или же вытираем был холст о песок дорожки.
С этого года я начал записывать аккуратно каждую минуту, проведенную за работой: каждые пять минут отдыха «позировки» портретной сельской модели сурово вычеркивались. Одиннадцать, двенадцать и тринадцать часов работы в сутки были средним уровнем.
Осенью 1905 года, когда я рисовал без конца портреты с приехавшего к нам от Тульского земства друга Льва Николаевича Толстого Михаила Васильевича Булыгина, вспыхнула Великая всероссийская забастовка. Помещик-крепостник Биеку некий, адъютант бывшего князя Михаила, ненавидевший моего отца «за либерализм», в двадцать четыре часа «выставил» батьку из имения: он хотел арестовать всех нас за пропаганду, но потом побоялся «саморекламы» и оставил свой план. И мы поехали по первому снегу, на санях, через села и станции, охваченные первым трепетом пламени отдаленной революции, в город Харьков. Это путешествие сестрой Людмилой все было изображено в прекрасных реалистических акварелях.
По прибытии в Харьков, по улицам, где еще кое-где не просохла кровь жертв расстрелов подавленного восстания, я уже бегал, ездил на извозчике, уговаривая всех харьковских художников, и в залах Дворянского собрания организована была под фирмой прогрессивного тогда Медицинского общества (врач Недригайлов, Фавр и какая-то слепая дама) большая выставка в пользу голодающих. Выставка открылась в начале 1906 года.
Жили мы на Пушкинской улице в чистенькой квартирке, однако в полуподвальном этаже, каждый вечер я рисовал керосиновые лампы, заслоненные зелеными или синими бумажными абажурами, бросавшими свет на членов нашей семьи, а также немногочисленных знакомых, посещавших нас. У бедняков друзей никогда много не бывает… Во время этого рисования матушка, обыкновенно, читала что-нибудь вслух, а младшие мои сестры, Надежда и Марьяна, позировали под это чтение.
Читать дальше