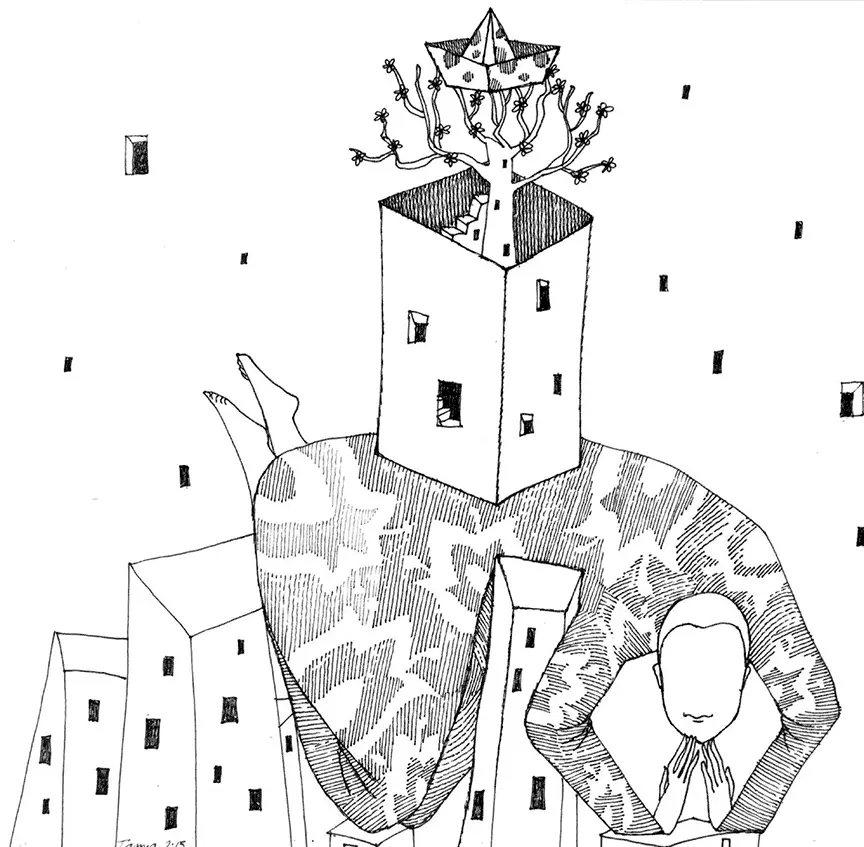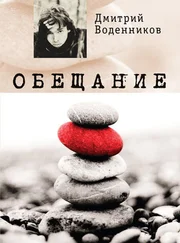Но глухо матушка кричит из мягкой бочки:
Скорей проснись, очнись скорей, Данила.
И я с откусанным мизинцем просыпаюсь.
«Мне стыдно оттого, что я родился…»
Мне стыдно оттого, что я родился
кричащий, красный, с ужасом – в крови.
Но так меня родители любили,
так вдоволь молоком меня кормили,
и так я этим молоком напился,
что нету мне ни смерти, ни любви.
С тех самых пор мне стало жить легко
(как только тёплое я выпил молоко),
ведь ничего со мною не бывает:
другие носят длинные пальто
(моё несбывшееся, лёгкое моё),
совсем другие в классики играют,
совсем других лелеют и крадут
и даже в землю стылую кладут.
Всё это так, но мне немножко жаль,
что не даны мне счастье и печаль,
но если мне удача выпадает,
и с самого утра летит крупа,
и молоко, кипя или звеня,
во мне, морозное и свежее, играет –
тогда мне нравится, что старость наступает,
хоть нет ни старости, ни страсти для меня.
Посвящается Исааку, Аврааму и Сарре
1.
Вот репейник мятный.
Какое ему дело,
что под ним спит золотое моё тело?
Он, нарядный, мохнатый,
наелся мной и напился,
я лежу под ним в очках и горячих джинсах.
Но, живее меня и меня короче,
он меня не хотел и хотеть не хочет.
Ты же: почки, почки сбереги мои, мати.
Я не так, отче,
не так хотел умирати.
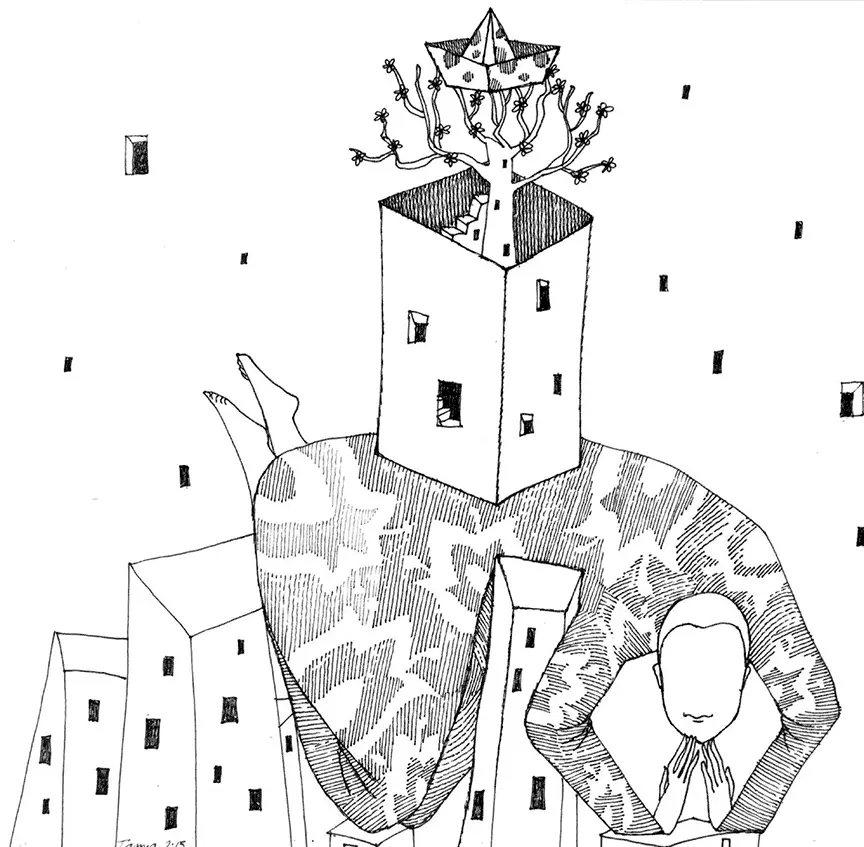
2.
Мне репейник – бог. У меня, кроме
этих комьев и кожи, нету ни братца,
ни семьи, ни царевны, ни государства.
Так зачем ты ходишь, зачем ты молишь?
Это царство дешевле и слаще «Марса»,
больше боли.
3.
Урожай не богаче тебя, курвы.
Ум поспел мой зелёный, поспел утлый,
и давно ослепли мои глазницы.
Мне отныне не бриться – а только сниться.
Бог мой скудный, осенний, пурпурогубый,
я тебя не хотел и хотеть не буду.
4.
И не горб это вовсе, а твой лопушник,
Arctium minus – и жечь не надо,
лучше спрячь мои пятки, весёлые ушки.
Я лежу под ним золотой, твердозадый,
как рассада, ушедшая мимо сада, –
мёртвый, душный.
5.
Жил да был у меня когда-то барашек,
не было барашка в мире краше,
он играл со мной, звенел кудельками,
только стал я лучше, стал я старше
(говорит, а сам глядит на жирный камень).
Знаешь: ты отдай за меня барашка,
что-то стало мне с барашком этим страшно.
«В тот год, когда мы жили на земле»
В тот год, когда мы жили на земле
(и никогда об этом не жалели),
на чёрной, круглой, выспренной – в апреле
ты почему-то думал обо мне.
Как раз мать-мачеха так дымно зацвела,
и в длинных сумерках я вышел из машины
(она была чужая, но была!)…
…И в этот год, и в этот синий час –
(как водится со мной: в последний раз)
мне снова захотелось быть – любимым.
Но я растёр на пыльные ладони
весь это первый, мокрый, лживый цвет:
того, что надо мне, – того на свете нет,
но я хочу, чтоб ты меня – запомнил…
– Ведь это я, я десять раз на дню,
катавший пальцами, как мякиш или глину,
одну большую мысль, что я тебя люблю,
(хоть эта мысль мне – невыносима),
стою сейчас – в куриной слепоте
(я, понимавший всё так медленно, но ясно)
в протёртых джинсах,
не в своём уме.
…в тот год, когда мы жили на земле –
на этой подлой, подлой, но – прекрасной.
«Опять сентябрь, как будто лошадь дышит…»
Опять сентябрь, как будто лошадь дышит,
и там – в саду – солдатики стоят,
и яблоко летит – и это слышно,
и стуки, как лопаты, говорят.
Ни с кем не смог
ни свыкнуться, ни сжиться –
уйдут, умрут, уедут, отгорят –
а то, что там, в твоём мозгу стучится,
так это просто яблоки стучат.
И то, что здесь
сейчас так много солнца,
и то, что ты в своей земле лежишь,
надеюсь, что кого-нибудь коснётся.
Надеюсь, вас. Но всех не поразишь.
А раз неважно всем,
что мне ещё придётся,
а мне действительно ещё придётся быть
сначала яблоком, потом уже травою –
так мне неважно знать: ни то, что будет мною,
ни то, что мной уже не сможет – быть.
А что уж там во мне рвалось и пело ,
и то, что я теперь пою и рвусь ,
так это всё моё (сугубо) дело,
и я уж как-нибудь с собою разберусь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу