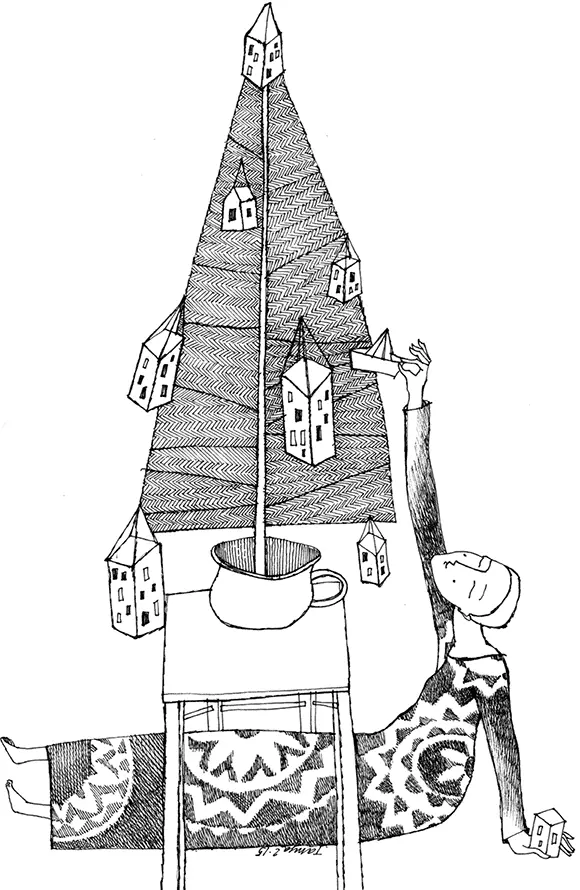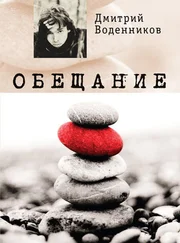А я подумал, что вот – рассыпется в пыль собачка,
но никогда не сможет мне рассказать, какая
была у них там, в небесах, – весёлая быстрая скачка
и чего она так завыла, в небесах его догоняя.
Но всё, что человек бормочет, видит во снах, поёт –
всё он потом пересказывает – в словах, принятых к употреблению.
Так средневековой монахине являлся слепящий Тот
в средневековой рубашке, а не голенький, как растение.
Поэтому утром – сегодня – выпал твой первый снег,
и я сказал тебе: Мальчик, пойдём погуляем.
Но мальчику больно смотреть на весь этот белый свет.
И ты побежала за мной. Чёрная, как запятая.
– Вообще-то я зову её Чуней, но по пачпорту она – Жозефина
(родители её – Лайма Даксхунд и Тауро Браун из Зелёного Города),
поэтому я часто ей говорю: Жозефина Тауровна,
зачем ты нассала в прихожей, и как это всё называется?

…Если честно, все смерти, чужие болезни, проводы
меня уже сильно достали – я чувствую себя исчервлённым.
Поэтому я собираюсь жить с Жозефиной Тауровной, с Чуней Петровной
в зелёном заснеженном городе, медленном как снеготаянье.
А когда настоящая смерть, как ветер, за ней придёт,
и на большую просушку возьмёт – как маленькую игрушку:
глупое тельце её, прохладные длинные уши,
трусливое сердце и голый горячий живот –
тогда – я лягу спать (впервые не с тобой)
и вдруг приснится мне: пустынная дорога,
собачий лай и одинокий вой –
и хитрая большая морда бога,
как сенбернар, склонится надо мной.
Проснуться в 147 лет, прочитать смс:
«здравствуй, мой обжигающий мальчик»,
изумиться, переспросить: – Почему обжигающий? –
получить очевидный ответ: «потому что ты меня обжигаешь»,
и даже не удивиться, что тебя называют на «ты».
– Господи, сколько вас было,
и хоть бы одна собака
сделала отчисленье в мой пенсионный фонд.
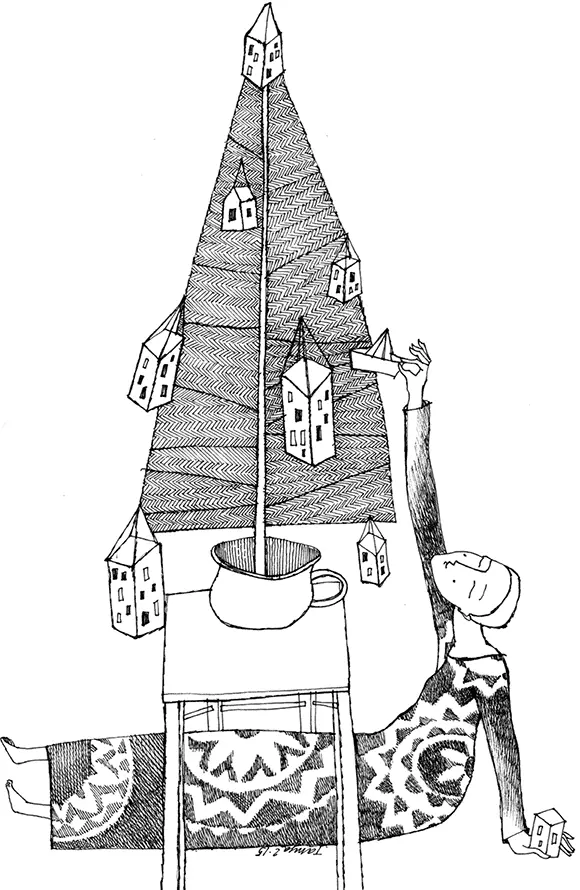
Этим летом мне все говорили: объявляй войну, собирай своё войско! –
ну вот я и собрал: три с половиной калеки.
…Но так уж случилось, что днём
мы с Чуней купили ёлку,
самую зимнюю ёлку , срубленную навеки.
Тут-то все стали её наряжать: и Саша повесил шарик, и Сеня повесил шарик,
а я взял серебристый Урал (я думал, что это река) и тоже повесил
как будто змею из стали, так – чтоб шары засияли,
и чтоб огоньки вокзалов засверкали на ветках этих.
– Вот это будет праздник! – я думал. Но чтоб по-хорошему,
то лучше бы – с вечным снегом, с сугробами над головой…
И не беда, что я Чуне
намазал вонючей мазью
её паршивые уши
и пахнет она – калошей
(да, именно: обыкновенной – советской старой калошей), –
Но эти четыре года – мы были втроём с тобой.
…Я просыпаюсь утром в постели, отяжелевший,
всё ужасно болит:
шея, спина, руки.
– Какого хрена, – спрашиваю, – мучить меня любовью,
когда мне надо о пенсии –
думать.
(Желательно персональной).
– До свиданья, – кричат на площадке друг на друга соседские дети.
До свиданья, – я отвечаю.
И действительно «до свиданья».
Потому что с утренней ёлкой, с самой лучшей ёлкой на свете
не бывает на самом деле ни прощания, ни разлуки.
Ну, а в сумерках (хоть я, конечно, знаю, что в сумерках спать нельзя)
я забираю с собой на кровать собаку
и тебя к себе забираю:
два тепла, шебуршащихся рядом,
шумно думающих тепла
(достаточно туповатых, надо сказать, тепла)
это слишком смешно для счастья – и я, вздрагивая, засыпаю.
…Посмотри, сколько разной чуши, ерунды золотой и нарядной,
висит на убитой ёлке: облепиха, Урал, Алтай,
и Россия висит на ветке, и синий шар Амстердама,
и дворник скребёт лопатой, и яблоко – Индокитай.
Хорошо, что ещё на свете
остаётся – так ёлок много
(да и если немного осталось): одиноких, двойных, тройных.
Как сказал Сашин тесть перед смертью: – Дайте ложечку Нового Года
(вот именно так и сказал «дайте ло-жеч-ку нового года»)
приложился к шипучей ложке, удостоверился – и затих.
По-моему, замечательно. – По-моему, всё – замечательно,
и то, что умрём, – замечательно, и то, что живём, – хорошо.
…на ёлке висит и качается ушастое ваше сиятельство,
щенячее наше сиятельство, доказанное рождество.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу