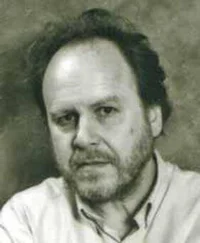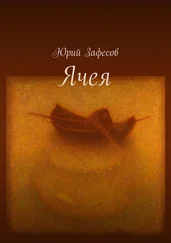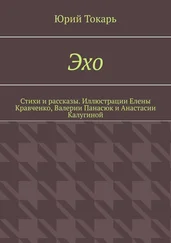Присяду я на подоконник, помыслю о добре и зле. Голубоглазый подполковник, тревога бражит на земле. В твоих ладонях вечность дремлет. Ты – ратник, пахарь. пилигрим. И мы про русские деревни всю ночь с тобою говорим. И пьем вино за наше братство, за все, что прожито всерьез. За рубежи! За гул пространства! За путь России в гуще звезд!..
Смутен взгляд сквозь затемненность стекол в дорогом изяществе оправ. На глазу небес – ресницей – сокол, слепоту куриную поправ. Брат мой сокол, где сестра зегзица?.. В облака, блукая, забредем. Заморгает небо, разразится обложным стенающим дождем. Высверк молний – восклицанье блица, жизнь впотьмах, вслепую, впопыхах. И живут, не повстречавшись, лица, те что под очками и в очках.
Взгляд в очках подробен, как расплата за глаза припухлые подруг. Без очков – в себе подслеповато ты живешь, как замыкаешь круг. А пообочь суета сорочья, оторочья жизни суета, лес прозрачен, дымчат в узорочье, суть густа – ну, словом, лепота! Два лица, два смысла зазеркалья рассеяньем света в каберне. Забайкалье, то бишь Забокалье: Чехов в кресле, Берия – в пенсне.
В час, когда по заре луженой
станет прошлое парусить,
постучатся чужие жены
о душе моей расспросить.
«У похмелья больные крылья,
мы б хотели тебе помочь…»
Хватит!
Свиньи мой двор изрыли.
Бога нет!
Уходите прочь!
Не гневите!..
Но свет нездешний
ветер вербами шевелит.
И округа живет надеждой.
Отчего же душа болит?
Отчего шелестит над кручей
змий зеленый – воздушный змей?
Память,
совесть мою не мучай!
Нет покою душе моей!
Жаждет,
ищет она спасенья
там где зиждется Русский Крест.
Морок вербного воскресенья.
Бог не выдаст – свинья не съест.
Свет печи. Чуть колеблемый свет.
Отогреем друг другу ладони.
В этом сиром, заброшенном доме
нет покою от прожитых лет.
Здесь зазря отгорает заря.
Паутина в углах шевелится.
И восходят забытые лица.
И кружится перо глухаря.
Сквозь надсаженный хохот пурги,
крепость бревен и одурь мороза
снова слышится плач паровоза.
А за дверью – чужие шаги.
Долгий сон на краю немоты.
Стол накрыт – для продрогших в дороге…
Мы наутро проснемся в тревоге —
хлеб не тронут, но стопки пусты.
Этой жажды нельзя утолить,
как нельзя в этой местности дикой —
той, где свет разбавляют брусникой,
от себя их приход утаить.
Зов из тьмы очевиден вполне.
как февральский взыскующий норов.
– Спи, родная, но даже во сне
не пугайся ночных разговоров.
Прожитая вечность ничего не значит! В мире бесприютно, на душе темно. «Не печалься, доча, это водка плачет, в этой мятой шкуре нет меня давно». Я уехал в гости и вернусь не скоро (мне отвратен шорох вкрадчивых шагов). В том краю далеком назревала ссора, я её утишу, разведу врагов. Я пронижу вечность, мне поможет случай, как письмо в конверте скомкаю лицо. Времени земного матерьял текучий разомну на пальцах, разомкну кольцо.
Отыщу в заборе старую прореху. «Не взрывайся, сердце, в полночь запершись!» Пусть надсада-память трижды входит в реку, дважды не смывая прожитую жизнь. Пусть как спутник бродит в зоревых урёмах, пусть тропа петляет меж добром и злом. Свезшихся с орбиты, жаром изнуренных увлеку сквозь годы в золотой пролом. Чтобы у порожка ягода-морошка, запахи и звуки незакатных дней. Чтобы шла на небо млечная дорожка, чтоб родные люди не брели по ней.
Прожитая вечность ничего не значит, в мире бесприютно, на душе темно. «Не тревожься, доча, это водка плачет. Соберись в дорогу, затвори окно.» Позабудь о боли ощущений острых, не расходуй душу в гневе и злобе. В том краю далеком бродит светлый отрок. Ты ему расскажешь о его судьбе. Скажешь: «Твои мысли потрепало ветром, напитаться грустью мы от них смогли…»
И качнется снова между тьмой и светом, меж родимых судеб маятник любви.
Стар городишко. Прах погребенных бродит в крови монастырской стены. Жил в городишке Тишка-ребенок, он прозревал и разгадывал сны.
Днем с фонарем волоокий свидетель век сновиденья свергал с высоты. Но горожане, как малые дети, жадно смотрели в отверстые рты. Слушали сказки о собственной доле, доумевая, что небо коптят. Видя, как жизнь согревала в подоле теплые облачки белых котят. Как ошкуряла сосновые бревна. Как пламенела сосулями с крыш. Тишкина тетка Глафира Петровна за предсказанья имела барыш. И на крыльце со значительным видом, глядя пришельцам поверх головы, пыжилась: «Зараз мальчоночку выдам. Так повествуйте, что видели вы».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу