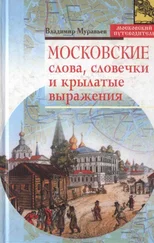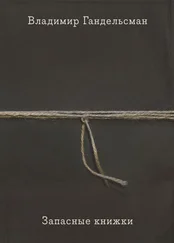Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, её тягот, то мной завоёвано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.
Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости – точная бездна.
Нещадная точность! Но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.
«Расширяясь теченьем реки, точно криком каким…»
Расширяясь теченьем реки, точно криком каким,
точно криком утратив себя до реки, испещрённой стволами,
я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки
оболочке, ещё говорящей стихами.
Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски
зарывая в песчаное дно, замирающим слухом…
Как лишиться мне смысла и стать только телом реки,
только телом, просвеченным – в силу безмыслия – духом.
Только телом, где кровь прорывает ходы, точно крот,
пронося мою память, её разветвляя на жилы…
Я к тебе обращён, и теперь уже время не в счёт:
обращённый к тебе, исчезаю в сознании силы.
Опыт горя и опыт любви непомерно дают
превращение в сердце, лишённое координаты,
оно – всё, оно – всюду, с ним время в сравнении – зуд,
бормотание, шорох больничной палаты.
И теперь всемогущество зрения – нежность его,
пусть зрачок омывает волна совершенным накатом,
это значит, пробившись за контур, слилось существо
с мнимо внешним и мнимо разъятым.
…и потом одаривает втрое.
В. Черешня
Бывали дни безмыслия, июль
на цыпочках заглядывал с балкона,
и проникал, чуть оживляя, тюль,
и к изголовью свет струил наклонно.
Бывали дни – не верил, что умру,
когда нас ночь на даче заставала,
и сад сиял, и больше никому,
нигде и никогда не предстояла
не только ты, но эта полнота,
ут и шившая время до приметы.
Я и теперь не верю, хоть она
изнемогла, распавшись на предметы.
Я и теперь не верю, но слабей.
Скажи: волна уходит, оставляя
воспоминанья в линзах пузырей,
один пузырь с другим сопоставляя…
Но человек, склонённый над столом,
не слышит, как стучит металлолом
и мёртвые клешни передвигает,
он времени волну одолевает,
и всё его живое существо
втройне одарено одним мгновеньем:
июльским днём, бессмертным помышленьем
и точным воплощением его.
«Где прошлое, в особенности то…»
Где прошлое, в особенности то,
которого не помню? Не уверен,
что я там жил, и надевал пальто,
подшитое убитым насмерть зверем,
и выходил в пространство… Там – никто.
Но где уже случалась эта явь,
которой остановлен я сегодня:
пальто, и приоткрытый в бездну шкаф,
и нечто, что томится в преисподней,
себя своею памятью обстав?
И промельком – окно, белёсый дым
над городом, где я всегда повинен
в твоих слезах… О чём мы говорим?
Зачем наш спор так сумрачен и длинен?
Чего ещё друг другу не простим?
Какая тяжесть в том, что не укрыть
забвением себя, и тяжесть вдвое —
не помнить, что ты помнишь, не любить
тех призраков, притянутых строкою,
которых ни изгнать, ни воплотить.
Вечер. Капель синь.
Уличный фонарь —
мокрый апельсин.
Зарево и хмарь.
Ложное торчит
тело. Ты моё?
Как я нарочит.
Лодочка-чутьё.
Влажное весло
вспыхивает там.
Мост. Не Ватерлоо.
Тело по пятам.
Кто во мне идёт?
На исходе дня
тело завернёт
за угол меня.
Островок сухой
от его пяты
стянется водой.
Что здесь было? Ты?
«Я жил не в эпоху войны…»
Я жил не в эпоху войны,
не в пору гонений неправых,
не в горькое время вины,
на личных настоянной травах.
От пыли полуденной сер,
в припадках то зла, то роптанья,
я жил, как замотанный зверь,
заботами о пропитанье.
И дни мои сбились в одно
пугливое серое стадо,
я с мёртвою болью в окно
следил за живучестью сада.
И слово искало порог
ступить и исторгнуться вещью,
но горло могучие клещи
сжимали, и зверь становился жесток.
Уж лучше б я был недвижим
и слеп, чем, запёкшейся речью
сращённый с тоской человечьей,
задуман настолько живым.
«Без отечества по существу…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу