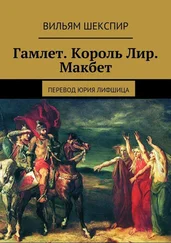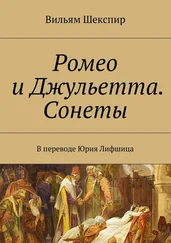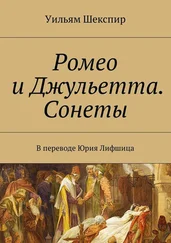Когда я вижу, что в расцвете лет
в нас вызревает гибельный изъян
и длится под влиянием планет
на сцене мира этот балаган;
что мы произрастаем, словно сад,
под тем же небом, в стуже и тепле,
и вот наш юный пыл идёт на спад,
и, гордых, нас не помнят на земле, —
то, наблюдая жизни круговерть,
я на прекрасный облик твой смотрю,
где спорят Время и слепая Смерть —
кому из них затмить твою зарю.
Но, объявляя Времени войну,
сонет мой возвратит тебе весну.
Как ни жестоко Время, отчего
ты не воюешь с этим палачом?
Есть помощней защита от него,
чем я с моим беспомощным стихом.
Ты полон сил, проделав полпути,
и счёта нет невинным цветникам,
мечтающим твой облик во плоти
пересоздать назло карандашам.
Ты должен жить – но в образе живом!
Твоей души и внешности твоей
не оживить ни кистью, ни пером
в глазах и душах будущих людей.
Отдав себя, живи в себе самом,
своим одушевлённый мастерством.
Поверят ли потомки моему
сонету о достоинствах твоих,
хотя пришлось могилой стать ему
твоих не худших качеств остальных?
И если славословить буду я
приметы совершенства твоего,
то скажут, что не мог я без вранья,
обожествив земное существо.
И полустёртый томик оттолкнут,
как старика, что глуп, но говорлив;
пустым сочтут мой вдохновенный труд,
как древний, но смешной речитатив.
Но ты вдвойне достоин жить в веках:
в своих потомках и в моих стихах.
На летний день не слишком ты похож:
в тебе и света больше, и добра.
От ветра дерева бросает в дрожь,
и скоротечна летняя пора.
То запылает жарко небосвод,
то потускнеет золотой зрачок,
а то на убыль красота пойдёт
естественным путём или не в срок.
А над тобой не вянет благодать
весны и полновластной красоты.
Тебе под сенью Смерти не блуждать —
в строфе бессмертной возродишься ты.
Она жива – и ты среди живых,
пока не гаснет свет в глазах людских.
У тигра, злое Время, рви клыки,
вели Земле пожрать своих детей,
у леопарда когти отсеки
и пепел Феникс по ветру развей.
Когда угодно, что на ум придёт,
то и твори с Землёю и людьми;
на одного лишь, Время-скороход,
своих преступных рук не подними:
Не вздумай по возлюбленным чертам
водить своим чудовищным стилом;
пускай они грядущим племенам
послужат в совершенстве молодом.
Но, навредишь ему ты или нет,
его спасти сумеет мой сонет.
И женская душа, и женский лик
тебе даны Природой, но не впрок:
ты женского лукавства не постиг,
бог и богиня страстных этих строк.
Нелживым выражением лица
ты озаряешь всех, как властелин,
чтобы восхи́тить женские сердца
и восхитить внимание мужчин.
Ты женщиною значился сперва,
потом Природа, ощущая страсть,
тебе, чтоб захватить мои права,
прибавила существенную часть.
Для женщин создан ты, но тем сильней
люби меня, а жёнами владей.
Не шепчет Муза мне роскошных фраз,
не сравнивает крашеных матрон
ни с тем, что на земле ласкает глаз,
ни с тем, что украшает небосклон;
ни с солнцем, ни с луною, ни с казной
на дне морском, в пещерах под землёй;
ни с тем, чего не видел шар земной,
охваченный воздушною каймой.
Люблю я честно – честно и пишу,
что звёзды приукрасить не смогли
моей любви, подобной малышу,
прекрасному, как жители Земли.
Я не желаю, как торговый люд,
хвалить товар – любовь не продают.
Я не старею зеркалу назло,
пока ты молодой, но если дни
распашут, как сохой, твоё чело,
то и со мной расправятся они.
Моя душа твоею красотой,
окутавшей тебя, защищена.
Твоя душа со мной, моя – с тобой,
и нашим дням теперь одна цена.
Не для себя ты должен дать зарок
себя хранить, как я, а для того,
чтоб сердцем сердце я твоё берёг, —
как нянюшка – питомца своего.
Ты отдал сердце мне, но если грудь
моя замрёт – навек о нём забудь.
Как лицедей, утративший кураж,
стоит на сцене, рот полуоткрыв;
как самодур, входящий в гневный раж,
слабеет, пережив бессилья взрыв, —
так я порой, забыв любовный слог,
испытываю подлинный конфуз,
раздавлен тем, что на меня налёг
любви моей невыносимый груз.
Но ярче всяких слов мой пылкий взор!
Пророк души кричащей, он привык
вести любви безмолвный разговор
и умолять нежнее, чем язык.
Любовь тогда поистине умна,
когда глазами слушает она.
Читать дальше