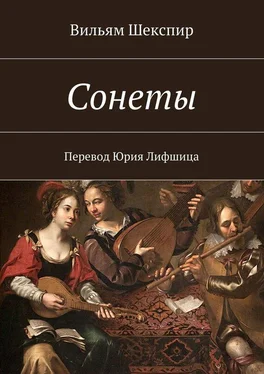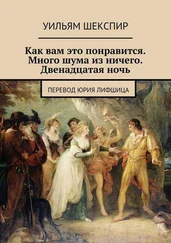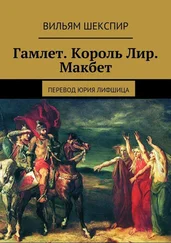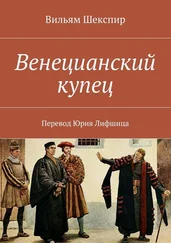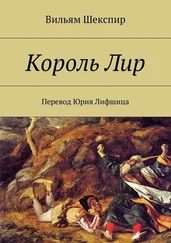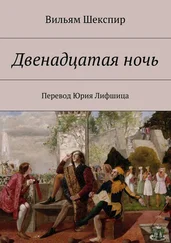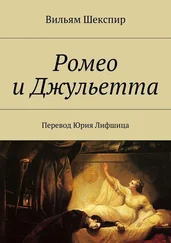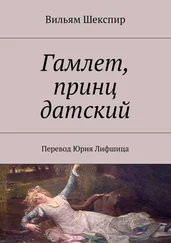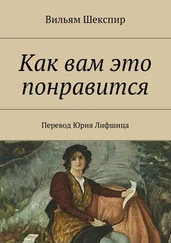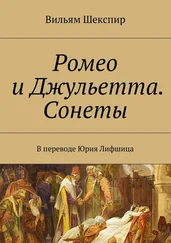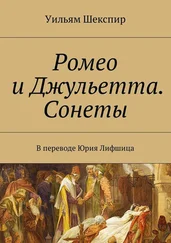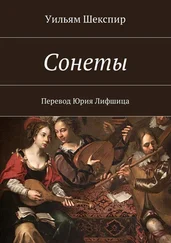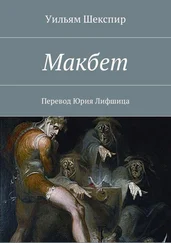Это ощущение сначала реализовалось у Лифшица даже не в переводах, а в его уникальных имитативных переводческих вариациях, выполненных на основе первых 42 сонетов Шекспира. В этих версиях переводчик намеренно отказался от стихотворной формы сонета, выстраивая свои поэтические фантазии в разностопном нерифмованном ямбе – по типу монологов из шекспировских пьес. В привычном – лирически-монологичном – восприятии цикла первые 17 сонетов представали как мудрые – в духе Платона или Эразма Роттердамского – наставления Поэта Другу, который, обязательно должен жениться, чтобы повторить в сыне свои красоты. В переводах-имитациях Лифшица отчетливо зазвучал голос совсем другого героя – страстно влюбленной женщины, не желающей мириться с тем, что ее упорно отвергает этот самовлюбленный красавец.
Позднее Лифшиц выполнил – и выполнил поэтически ярко, на высоком уровне переводческой культуры – перевод всего цикла сонетов. И хотя теперь переводчик полностью выдержал строгую поэтическую форму сонета, он и здесь не отказался от принципа драматической организации. Настойчивая героиня, найденная им в имитативных переводах-монологах, оказалась вполне реальной и в сонетах, также приобретших художественные очертания драматических монологов. В подобной композиции голос главного героя цикла, переставшего быть единственным, приобрел новую выразительность. Так постепенно складывается в сонетах Лифшица особая творческая энергетика – энергетика переводческой игры художественными смыслами шекспировского цикла, игры, делающей старинные сонеты «текстом без берегов»,
Елена Первушина.
Первушина Елена Александровна.Род. в 1944 г. Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Дальневосточного государственного университета. В списке публикаций – 92 работы. В настоящее время работает над докторской диссертацией по проблемам сравнительного литературоведения.
Пусть только наилучшее растёт!
И не погибнет роза красоты,
когда цветы умрут, но в свой черёд
их обессмертят юные цветы.
А ты, влюблённый в собственную стать,
горишь самоубийственным огнём,
в пиру предпочитаешь голодать,
чтоб жертвой стать себе и палачом.
В тебе – весь мир, ты – юности венец,
весны герольд, но свой богатый клад
в себе ты прячешь, милый мой скупец,
и в то же время тратишь невпопад.
Не ешь того, что всем принадлежит,
не то тебя убьёт твой аппетит.
Когда твой облик зимы окружат,
изрезав поле красоты твоей,
и дней твоих весенних маскарад
окажется тряпьём в глазах людей, —
как слухи о своей пустой казне
ты пресечёшь? Бравадою о том,
что красота покоится на дне
твоих очей, изъеденных стыдом?
Будь у тебя наследник, ты бы мог
гордиться, что отца заменит сын,
что он твои счета закроет в срок
и не предаст вовек твоих седин.
Тебя, когда ты станешь стариком,
согреет кровь в наследнике твоём.
Не в зеркале, а в жизни двойника
под стать себе создай, иначе ты
ограбишь этот мир исподтишка,
убьёшь святые женские мечты.
Но где та плоть, которой суждено
не под твоим пластаться лемехом?
Где тот глупец, кто дивное зерно
хоронит в себялюбии своём?
Как в зеркале, в тебе находит мать
своей весны апрельский первоцвет.
И ты, старея, мог бы увидать
в таком окне свой золотой рассвет.
Намереваясь сгинуть без следа,
ты образ свой погубишь навсегда.
Напрасно, расточитель молодой,
ты не жалеешь своего добра.
Природа нас не дарит красотой, —
даёт взаймы, со щедрыми щедра.
Ты, милый скопидом, прибрал к рукам
то, что обязан был вручить другим.
Ты, бедный ростовщик, не сможешь сам
всю прибыль получить по закладным.
Тот самого себя и проведёт,
кто самому себе даёт кредит.
Тебе Природа свой предъявит счёт
и неустойку выплатить велит.
Кто красоту не пустит в оборот,
тот смерть в душеприказчики возьмёт.
С каким искусством Время создаёт
картины, услаждающие взор,
и, словно деспотичный сумасброд,
выносит совершенству приговор.
Спокойный ход недремлющих часов
уводит лето в ледяной полон,
где стынет сок безлиственных стволов,
где пустота и снег, и вечный сон.
И если квинтэссенция цветов
в прозрачную тюрьму не заперта,
то, не оставив никаких следов,
из памяти исчезнет красота.
Зима не в силах навредить цветам,
когда жива их сущность – фимиам.
Читать дальше