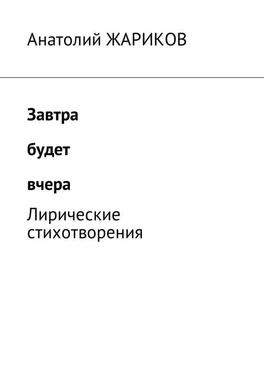Листы пожелтели, земля потемнела,
холодное небо дождями разбито.
Адам починяет разорванный невод.
И Ева рожает, как правда под пыткой.
У подруги душа
на понюх гашиша.
Отдышавшись едва,
я пишу в ней слова.
По окружности жизнь,
словно ласточки лёт.
Над балконом стрижи,
под балконом помёт.
А в глазах синева,
как на клумбе трава.
В тихой комнате смог,
водка, русский разлив.
Я забыл, что ты Бог,
ты забыл, что я жив.
«И всё же русский ямб неистребим…»
И всё же русский ямб неистребим,
от поздней осени рябиновая чарка,
в небесных лужах пирамиды парка
и от земли к звезде – неслышный гимн.
Горят леса, гусей тревожный крик,
в паденьи листьев пятистопный ритм,
и валит в осень свет последний лето,
как валит с ног любви глоток последний.
«Разбавляясь душой, как вином…»
Разбавляясь душой, как вином
плоть, от рук отбиваясь, взлетает,
раньше было и клёво, и мало,
а сейчас не клюёт, и давно.
В каждом омуте смысл и наука,
в каждой твари улыбка и свет.
Вы умеете радостно хрюкать
подошвой от советских штиблет?
«Разрушит мир за пять реальных дней…»
Разрушит мир за пять реальных дней,
погасит свет, нет бога кроме бога.
Всё. Больше никаких затей.
Скрутил цигарку, курит на пороге.
«Пока я пьян, пишу стихи…»
Пока я пьян, пишу стихи,
растёт крапива у порога,
двенадцать мировых стихий
латают созданное богом.
Пусть на гектарах недород,
звезда по всем дорогам светит,
с мотыгой по средине лета,
задрав штаны, Господь идёт.
Одиноки дни поэтов,
кофе, водка, сигареты…
Береги их на том свете,
ангел жизни, ангел смерти.
Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу…
Х. Л. Борхес
«Сад, скамейка, червивое лето…»
Сад, скамейка, червивое лето,
сколько Ев и Адамов оставил быть хлорофос!
Террикон муравьёв, добровольное гетто,
шоу бабочек, гусениц форс.
Он приходит, и мелко волнуется дрожь
тёмных листьев и кровью налившихся роз,
плотный воздух прослоен и сладок
и желанием тянет от яблок.
Он живёт здесь долгие тысячи лет,
его кожа блестит, а тело змеится,
ему снится высокий и неопалимый свет
и пространство, куда не летают птицы.
Не любить я не могу,
тихий вечер, грустный случай,
я беру, и ты получишь,
ты не лжёшь, и я не лгу.
Спит бурёнка на лугу,
дятел тюкает по древу.
Ева – чудо, Ева – стерва.
Отказаться не могу.
«Погибнув на сцене, он пьёт в дешёвом кафе…»
Погибнув на сцене, он пьёт в дешёвом кафе,
цепляет вполсилы входящую женщину взглядом,
зевает, в подкорке находит наполненный ядом
бокал, звенит в голове, некто в чёрном приносит кофе.
С утра он отравлен, неловок, не волен.
Но вот уже вечер подводит весёлый итог.
Когда бы не рампа, секущая линия боли…
Он делает пробный, как будто последний, глоток.
«Кот на цепи, в избушке Баба-…»
Кот на цепи, в избушке Баба-
Яга, Кощея смерть на дне
реки, Царевна-жаба
снимает шкурку (иль исподнее),
вода живая, мёртвая вода,
где ваши кружки, дамы, господа?
Ушли в болота, сгинули, засранцы.
И спящие не хочут просыпаться.
«Чувства осени отчаянны…»
Чувства осени отчаянны,
у зимы сознанье спит,
коротает вечер с чаем
незаконно знаменит.
Поедает апельсины
далеко от отчих мест,
где суровы, долги зимы
и спокойно спит поэт.
«Я пил, разбавляя неправдой добро…»
Я пил, разбавляя неправдой добро,
я портил ей жизнь, выжигая нутро.
И вот из далёких космических дней
сказали, что я виноват перед ней,
и жёлтая чашечка звёздных Весов
упала и мне исказила лицо.
Я видел всё в свете превратном с тех пор,
я слышал обман, где вели разговор,
я чуял предательство там, где молчали,
я знал о конце, где едва начинали,
я видел в рожденье твоём, человек,
страданье длиною в твой жизненный век.
Я с богом не бился, я только писал
и пил, то с товарищами, то сам,
лукавая осень считала деньки,
как строчки редактор, как ангел грехи.
Я видел в стекле, изучая планеты, —
нет жизни и водку не пьют на том свете.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу