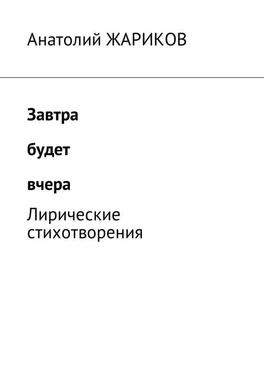«Не надо никуда уходить…»
Не надо никуда уходить,
завтра выпадет дождь и появится солнце,
чтобы нам окончательно заблудить-
ся, достаточно высадить сосны,
зажечь день, погасить свечу
и в оставшейся музыке незаметно
различить в каждом слове чу-
до жизни и улыбку смерти.
«Жизнь беспредметна и убога…»
Жизнь беспредметна и убога
без смерти, женщины и бога.
«Наш подъезд обворован, обгажен, на надписи смел …»
Наш подъезд обворован, обгажен, на надписи смел —
губная помада, резина, дыхание тел.
На десять семей с задрипанным псом пищевод,
под сеткою солнце едва золотит небосвод.
По сорным ступеням с уклоном налево подъём,
мы жизни не чуем, но всё-таки мило живём.
Мы валим на бога, на мать его срам и грехи.
Но бог не ворует, не любит, не пишет стихи…
«Смерть приберёт, не закрывая книги…»
Смерть приберёт, не закрывая книги,
листы исчёрканы и меты на полях.
Чудак надеется до финишного мига…
Смени бельё и на постельку ляг.
Тебя обмоют, так ты не купался,
тебя побреют, так ты не сверкал
Не отражает жизни плоть зеркал;
элементарный финиш, доктор Ватсон.
«Разве помнит гусеница крылья?..»
Разве помнит гусеница крылья?
«Летом на окне снежинка…»
Летом на окне снежинка,
а зимой – листок.
Небо облаком зашито
вдоль и поперёк.
Мы ещё не проиграли,
и цветёт трава.
Тёплый вечер, трали-вали,
тихие слова.
Слёзы уксуса и мёда,
сладкая слюна.
Сердце воет на погоду,
рваная струна.
«Смертна роса на цветах полевых…»
Смертна роса на цветах полевых,
крест покосился и надпись стёрта…
Если не можем любить живых,
то на хрена любовь наша мёртвым?
«Нам оставил век одни загадки…»
Нам оставил век одни загадки,
как в косую линию тетрадки,
громкие предательство и подвиг
и плевки на них героев поздних.
И от воздуха свободы охреневши,
тупо тычут в нас, осиротевших,
вроде как на воздухе распятые,
указательные близнецы и братья.
«В строчке то Пушкин, то бог…»
В строчке то Пушкин, то бог,
выбей на улицу дверь,
кто-то лукаво помог
сделать игрушкой дуэль.
Видится издалека
медленной пули полёт
и ни ладошку, ни как
время не разорвёт.
«Пли!» – как истории блин,
пахнет дерьмом нафталин.
Боже, как неповторим
ангельский смех Натали.
Живём по времени Дали,
квадратные гудят нули,
рот закрывает наши уши,
беременны тоскою души.
Возьми вина и булку хлеба
и напиши звезду и небо.
«Сделай ковчег в триста локтей, Ной…»
Сделай ковчег в триста локтей, Ной,
и отнесёт вода его к Арарату,
люди уснули крепким земным сном,
светлую веру и тёмную веру утратив.
И закрылись источники, и перестал дождь,
влага высокая снова в реки спустилась,
в чистых сердцах поселится новая ложь,
ветку зелёную в клюве несёт птица.
«Всего не перепробуешь, но есть…»
Всего не перепробуешь, но есть
все вина предержащий градус.
Реальность эту надобно прочесть,
не различая боль и радость.
Глухой – твой брат и поводырь – слепой,
раскачивай плечом ларёк вокзальный.
Мир тоже маятник, его кривое жало
всегда под пахом, если помнить По.
Вот и мир проявился:
бутылка вина на столе,
кошкин завтрак:
два шпрота на блюдце,
глаз едва различает
скупые предметы во мгле,
вещи плавают, падают,
прыгают и не бьются.
Туго глянешь в окошко,
поставишь весне минус балл,
кровь пройдётся по венам,
погладишь мягкую кись,
отодвинешь гардину —
май в грязную лужу упал —
и поправишь стихами
вялотекущую жизнь.
«Меня освободили, я – Варавва…»
Меня освободили, я – Варавва;
и крест мой наг, и гвозди целы.
Желающие есть? Вакантно место славы,
как слово, пролетая мимо цели.
Я ближе вам, я так же дурно пахну
лосьоном и дезодорантом,
я пью по воскресеньям, верю в Пасху,
люблю родителей и уважаю брата.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу