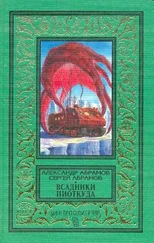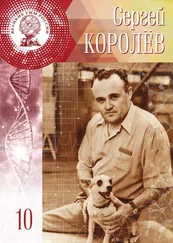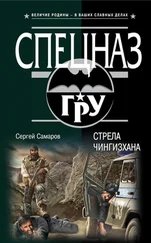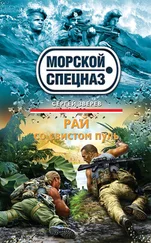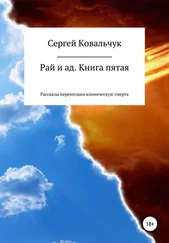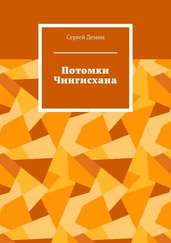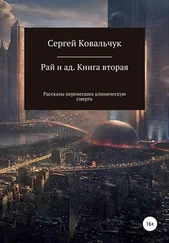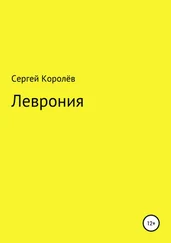Тем более что в Вологде напечатали еще одну книгу, вышли подборки в “Алконосте”, “Детях Ра”, “Литературной учебе”. Неутомимая Галина Щекина публиковала его в вологодской “Свече”. И среди сверстников, коим небезразлична поэзия, он имел определенную популярность. Свидетельством тому обилие посмертных публикаций в Интернете. Правда, чаще всего перепечатывают одни и те же “хиты”: “Побежала метла по плевкам…”, “Рай Чингисхана”, “Рыба-Нюхтя”, “В провинциальных страшных городах…”. Последние два текста стали своего рода визитной карточкой Сергея Королева. Заслуженно ли?
За три недели до гибели Сергея Королева в Литературном институте состоялось обсуждение проекта его дипломной работы. Обсуждение было бурным, и, слава Интернету, не сгинуло: доступно на институтском сайте. Кто-то ругал автора за увлеченность некорректной лексикой, кто-то вообще отказывал в таланте, ерничая на тему: “Два раза в Лит поступил, поступишь и в третий, молод еще; не поэт”. Аргументированнее других в защиту поэта выступали Марина Мурсалова, Александр Переверзин и руководитель его семинара Галина Седых, которая, помимо прочего, сказала: “Меня не покидает чувство досады при чтении стихов Сергея. Кому многое дано, с того много и спросится. Я реально вижу, что за последние два года все пошло вниз. Здесь много прекрасных стихотворений, которые нужно толково представить. У меня напрашиваются три раздела. Условно я их обозначаю так: 1) “Я стал прозрачней и грустней”, где идет откровенное лирическое “я”; 2) “Рыба-Нюхтя” — странные шукшинские чудики; 3) “Медленно перетекает в память” — тяжелые, философские, замогильные стихи. Правда, третий раздел перевешивает”.
Не открою великой тайны, сказав, что именно стихи из этого диплома и образовали основной корпус книги “Повторите небо”: поэт, конечно же, предъявлял наставникам и товарищам лучшее из написанного. Издателем, редактором и автором предисловия стал Александр Переверзин, а послесловие написала Галина Седых. Книга и вправду состоит из трех разделов, и первый из них, “Маятник”, действительно сугубо лирический, второй, “Бытописание” — вроде бы, “про чудиков”, а третий, — тот самый, тяжелый, философский. Только вот акценты сместились и воспринимаются по-другому. Как по-другому воспринимаются и слова Галины Седых о том, что все пошло вниз. Тогда, пять лет назад, она, скорее всего, говорила о качестве стихов, но оказалось все гораздо сложнее.
Вот и Рыба-Нюхтя теперь совсем не выглядит “легким” стихотворением про дурачка, укрытого внутри:
Рыба-Нюхтя плыла по озерной реке,
Рыба-Нюхтя плыла по реке;
И несла Рыба-Нюхтя в прозрачной руке
Мышь в пустом узелке...
И запутались мысли в моем дураке,
Пали силы в силке, —
И не держит дурак ни перста на курке,
Ни червя на крючке:
Рыба-Нюхтя резвится в башке — в дураке
И совсем вдалеке.
Холодом веет. Вообще, в системе образов Королева холоду отведена очень важная роль. Холод, он ведь трагичней боли. Боль — это всегда у живого, а холод часто оказывается нездешним. С другой стороны, холод — это граница. Недаром говорят о прохладных, например, отношениях. Вообще, двойственность смыслов чрезвычайно характерна для поэтики Сергея Королева. Причем характерна на самых разных уровнях — от строк до глав. Хотя, конечно, применительно к разделам книги за понимание надо благодарить составителя. И мы непременно его поблагодарим.
В первой, “лирической” части книги много говорится о смерти, расставании, о том, что неприлично считаться в живых, но ощущение от стихов светлое. Напротив, во всей финальной трети смерти вечная тюрьма упомянута лишь однажды, да и то сказать: что за смерть-то? Птичья… Но стихи этого раздела действительно трагичны. Дыхание смерти (оксюморон, кстати: откуда дыхание у бездыханности?) там действительно ощутимо.
Иногда двойственность раскрывается на протяжении целого стихотворения:
Свободу некуда девать:
она “не влазиет” в ворота;
она желает убивать —
и не приучена работать.
У ней особенная стать,
не поминай Свободу всуе,
ей лучше не существовать —
и вот она не существует.
Что здесь свобода? Бог? По характеру написания с прописной, запрету упоминать и очевидной неявленности, кажется, да. Но отчего ж “желает убивать — и не приучена работать”?
Чаще мерцание делается заметнее на каком-то из фрагментов текста:
Но ларьки пивные
И церквей шатры —
Светят, как иные,
Высшие миры.
Читать дальше