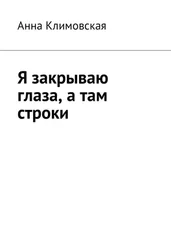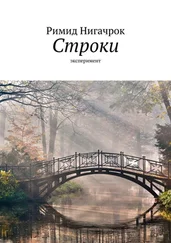* * *
Я не знаю, кто стучал
потому что не открыл.
Я томился и скучал,
носом духа
землю рыл.
И земля, как пух легка,
вдруг явила червяка.
Я сказал ему: пошли,
порыбачим на мели!
Есть местечко у излучины,
там, где рыбы не изучены:
под корягой там храпит
чудо-юдо рыба кит,
рыба-солнце — только тронь —
обжигает как огонь!
И загадочно бледна
ходит рыба там луна.
Звезд морских вокруг не счесть, —
в общем, много чего есть!
Но ответил червячок:
"Успокойся, дурачок.
Ну подумаешь — пришли,
ну подумаешь — стучали.
Может, тоже на мели,
может, тоже заскучали.
Кто сказал тебе, балда,
что стучится лишь беда,
что стучится только горе,
только крайняя нужда?!
Что ты взвился?
Что ты сник?
Выше голову, старик!"
Закопал я червяка.
Пусть живет себе пока…
Поезд на юг
Вот и отстали осенние тучи.
Степь до вечернего неба ясна.
...и говорит, говорит мой попутчик
длинно и сбивчиво, будто спьяна.
Трезв он. И с ним ничего не случилось.
Просто дорога его повела.
Просто забывчиво сердце забилось,
радость проснулась, беда ожила.
Что там ему нагадала цыганка?
Что наказала, прощаяся, мать?
Жизнь помахала рукой с полустанка
и не вернуться. Не поцеловать.
Будто припомня забытые сроки
он не со мною — со степью сквозной,
с небом вечерним, где куст одинокий
неопалимой горит купиной…
* * *
Ничего у моря не прошу.
О разбитом не грущу корыте.
По привычке, а не из корысти
прошлое как гальку ворошу.
Думал - помню. Вышло - позабыл.
Память высыхает, а не тонет.
Неужели был он голубым -
камешек, обсохший на ладони?
* * *
…А где-то далече, где пусто и глухо,
с ночной остановки, что мне не нужна,
ворвется с клубами морозного пуха
разгневанный голос: "А он!.. А она!..."
Расправятся крылышки двери трамвайной,
вагон полетит, то скрипя, то звеня.
А кто там, а что там — останется тайной.
Там что-то случилось, да нету меня.
Как будто прогоном пустым и холодным
вздремнул, отключился. Не сообразил.
Меж тихим покоем и громом господним
удачно проехал — и руки умыл…
* * *
(В ночь на 21 июня 1987 г., после смерча)
Последних капель звон стеклянный.
Отдельно каждая слышна.
За смертным ревом урагана —
такая в мире тишина…
А за окном, в провале черном,
осветят фары иногда
деревья, вырванные с корнем,
свисающие провода.
И слепо тычешься по кругу,
чего-то ищешь, кроя вслух
хлам, подвернувшийся под руку
и опротивевшие вдруг —
не грозы, нет, — свои же речи
о красоте и мощи гроз,
и эти праздничные свечи, —
других-то в доме не нашлось…
* * *
Запоздалая нежность к зверью,
над травою простертые руки, —
холодят они душу мою,
будто вещие знаки разлуки.
Долго спрашивал я тишину,
что там выпадет — чёт или нечет?
Только кровь свою слышал одну.
Кровь — она шелестит и щебечет.
Друг далекий! Сквозь стену огня,
на высотах своих безвоздушных, —
как помянешь, коль вспомнишь, меня, —
с примиреньем? С тоской? Равнодушно?
Подивишься ли доле моей —
пить из рек, не бояться молчанья,
трав касаться, смотреть на зверей,
всё не верить, что это — прощанье…
* * *
Еще не чернеет накатанный лед,
на давнем снегу перемен не заметно,
но солнце сияет весь день напролет!
Ты думаешь, это проходит бесследно?
Кому-то вперед невтерпеж забежать,
а кто-то хотел бы вернуться обратно,
но воздухом этим нельзя не дышать.
Ты думаешь, все это безрезультатно?
Что будет с тобою, что будет со мной —
гадалка гадает, а время исполнит.
А сердце, быть может, всего-то и вспомнит
весеннее небо над зимней страной…
На завалинке
Говорят, коротким будет лето.
Осень будет долгой, говорят.
Что ж, порой случается и это
да еще по многу раз подряд.
Вьется локон, гребню не послушный,
лечь на прежне место норовит.
Говорят, была такая служба —
слушать, кто да что там говорит.
Читать дальше