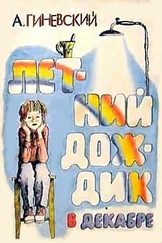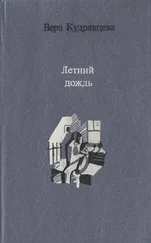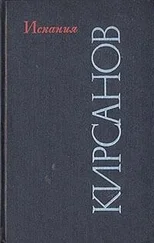1940
Семен Кирсанов. Собр. соч. в 4-х томах.
Москва: Худож. лит., 1974.
Зеркала —
на стене.
Зеркала —
на столе.
У тебя в портмоне,
в антикварном старье.
Не гляди!
Отвернись!
Это мир под ключом.
В блеск граненых границ
кто вошел — заключен.
Койка с кучей тряпья,
тронный зал короля —
всё в себя,
всё в себя
занесли зеркала.
Руку
ты подняла,
косу
ты заплела —
навсегда,
навсегда
скрыли их зеркала.
Смотрят два близнеца,
друг за другом следя.
По ночам —
без лица,
помутнев как слюда,
смутно чувствуют:
дверь,
кресла,
угол стола,—
пустота!
Но не верь:
не пусты зеркала!
Никакой ретушер
не подменит лица,
кто вошел —
тот вошел
жить в стекле без конца.
Жизни
точный двойник,
верно преданный ей,
крепко держит
тайник
наших подлинных дней.
Кто ушел —
тот ушел.
Время в раму втекло.
Прячет ключ хорошо
это злое стекло.
Даже взгляд,
и кивок,
и бровей два крыла —
ничего!
Никого
не вернут заркала!—
Сколько раз я тебя убеждал: не смотри в зеркала так часто!
Ведь оно, это злое зеркало, отнимает часть твоих глаз и снимает с тебя тонкий слой драгоценных молекул розовой кожи.
И опять все то же.
Ты все тоньше.
Пять ничтожных секунд протекло, и бескровно какая-то доля микрона перешла с тебя на стекло и легла в его радужной толще.
А стекло — незаметно, но толще. День за днем оно отнимает что-то у личика, и зато увеличиваются его семицветные грани.
Но, может, в стекле ты сохранней?
И оно как хрустальный альбом с миллионом незримо напластанных снимков, где то в голубом, то в зеленом приближаешься или отдаляешься ты?
Там хранятся все твои рты, улыбающиеся или удивляющиеся. Все твои пальцы и плечи — разные утром и вечером, когда свет от лампы кладет на тебя свои желтые лапы…
И все же начала ты убывать.
Зачем же себя убивать?
Не сразу, не быстро, но верь: отражения — это убийства, похищения нас.
Как в кино, каждый час ты все больше в зеркальном своем медальоне и все меньше во мне, отдаленней… Но —
в зеркалах не исчезают
ничьи глаза,
ничьи черты.
Они не могут знать,
не знают
неотраженной пустоты.
На амальгаме
от рожденья
хранят тончайшие слои
бесчисленные отраженья
как наблюдения свои.
Так
хлорвиниловая лента
и намагниченная нить
беседы наши,
споры,
сплетни,
подслушав,
может сохранить.
И с зеркалами
так бывает…
(Как бы свидетель не возник!)
Их где-то, может, разбивают,
чтоб правду выкрошить из них?
Метет история осколки
и крошки битого стекла,
чтоб в галереях
в позах стольких
ложь фигурировать могла.
Но живопись —
и та свидетель.
Сорвать со стен ее,
стащить!
Вдруг,
как у Гоголя в „Портрете“,
из рамы взглянет ростовщик?
…В серебряной овальной раме
висит старинное одно,—
на свадьбе
и в дальнейшей драме
присутствовало и оно.
За пестрой и случайной сменой
сцен и картин
не уследить.
Но за историей семейной
оно не может
не следить.
Каренина —
или другая,
Дориан Грей —
или иной,—
свидетель в раме,
наблюдая,
всегда стоял за их спиной.
Гостям казалось:
все на месте,
стол с серебром на шесть персон.
Десятилетья
в том семействе
шли, как счастливый, легкий сон.
Но дело в том,
что эта чинность
в глаза бесстыдно нам лгала.
Жизнь
притворяться
наловчилась,
а правду
знали зеркала.
К гостям —
в обычной милой роли,
к нему —
с улыбкой,
как жена,
но к зеркалу —
гримаса боли
не раз была обращена.
К итогу замкнутого быта
в час панихиды мы придем.
Но умерла
или убита —
кто выяснит,—
каким путем?
И как он выглядит,
преступник
(с платком на время похорон),
кто знает,
чем он вас пристукнет:
обидой,
лаской,
топором?
Но трещина,
изломом призмы
рассекшая овал стекла,
как подпись
очевидца жизни
минувшее пересекла.
И тускло отражались веки
в двуглавых зеркальцах монет.
Все это
спрятано навеки…
Навеки, думаете?
Нет!—
Читать дальше