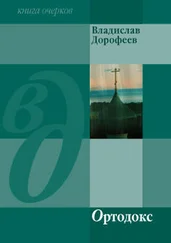Нам долго клали под языки сплетения из унижений,
краснели,
будто блохи,
мы —
куски сплетенных языков и губ, и побед.
И петухи кричат: КУ!
Кусок, кусок.
Мощеною,
породистой,
природою,
будящей пыль и хвастовство,
идем.
ИДЕМ?… кто бросил?
Кто покрывал молитвою?
КТО?
ВЫ.
Могучей влагой
тишина легла на ночь,
брызжа ночными костными звездами
голенищ домов,
прощая меченосцам асфальтированного люда —
красивого,
в булыжниковых зорях.
Остроты?
Кто ты?
Кто мы?
Нарядных птенцов выпускаем в порядок полетов.
ТУТ Я! ЗДЕСЬ МЫ! Мы – это… это… это то…
Очеловеченные облака.
Врата ада/да на горе,
тропинка захарканная ведет к заре,
и рая мухи все облепили, скрывают все,
все набивают солью;
тела, сотканные из частей ненужных,
из частей тел человеческих,
из мертвых кишок сотканы лики,
из рваных, обнаженных, лишних, грязных, опутанных, —
соткали телеса,
уложили в небеса.
Молимся на небеса под медноголовой крышей,
на чистовые поднебесья,
из безнадежности.
Безвзорный,
заберись на самую высокую,
на самый высокий клык городов.
Видишь, как цветы, распускаются старики?
Растревожили корневища,
лезут глазницами из орбит Земли,
лижут лица языками,
чистят глотки мужики-старики,
кричат:
– Не надо, не живите, не трогайте,
нетрогайте, неживите.
На трон! на трон! на жизнь! на честь!
Живую кровь оседлаем,
ноги под кортики оседлаем.
Местоименный разград горстопов.
Мучаемся матерью поднеблудов,
мордою, мордою – доктора, доктора!
Непотрошеного, непотрошеного!
Летит листок,
ветер рвет,
над облаками задерганный листок радуется.
Хор радуется,
дергается окотлованный служитель.
Ночные берега,
будто березы.
Борода в противоход.
Мечта листопадов добра.
Невзираемые господа жилы по штрекам тянули…
Влачат в муках
мукой обсыпанные руки,
в середину втянув карандаш.
Солнце мужиком наряжают.
Седое солнце грозится от страха,
от страха сияет.
Солнечный хор несется.
Я солнца не вижу необходимости;
круг пыхтит от обжорства,
от семяизлияния лишнего;
круг пыхтит,
ночь если;
ничтожное светило, выставив нос одною мертвою стороною,
не светит
не греет
не пашет,
а злится
а дребезжит
а мордою трется о лоток звездочета —
старое кривое негосподское дупло – ДУПЛО.
Тощие, тощие, тощие; жалкие, жалкие, жалкие.
Поймать под разлуку! Поймать под разлуку!
Извиваются,
будто черви,
мохнатые
бронированные черви,
кольчатые,
стройные черви,
бронзовые,
ласковые черви.
Черви-поезда.
Поезда-мертвецы.
Шагнул.
Курятник накрыт горем.
Глотками курье вставало.
Глотками шест,
громоздясь на рубашии ткани,
с ночью заживо живет,
ткет холсты холстопрочные;
ткацкие рубины,
руки покинув,
направляются.
Лишенный ног паровоз
трели обманчиво поет.
Песня латает.
Уж Авель ногами трезубцы обвил,
уж пахнет дымом петух,
уж черный петух нам обманчиво вверил свои унижения
и перьями неба клочки.
А метр,
метр вонючий,
отмеряет путь паровозам,
замеряет безножие
застывших,
обмеренных,
забытых по течению.
Наклонили и ведра,
пооткрывали и двери,
пораспахнули и окна:
любите
живите
ратуйте и радуйтесь
плачьте
мудрите, храните
бодритесь.
ВОКЗАЛЫ СОЖГИТЕ!
Жгите вокзалы,
в жертв петухов не берите,
жгите вокзалы,
топите свечи из сала детей,
пучки детских волос на фитиль,
на огонь;
верните,
жгите людей,
усыпите людей.
Ищут клады.
Клады ищут гады.
Гады рады.
Мой вокзал ни о чем.
На тяжелых складках паровозного костного лба
выросли рога паровозных гудков.
Может Каин простит людям пятна свои, или доли, свою и чужие, и кинет с плачем чистым, с плачем… кинет, зароет голову в рельсы, обнимет лежащие под откосами поезда.
ДА! ДА! ДА!
Обливаются крови служители, на босые ноги надевают – без сомнения – остроносые подлости. Остроносые шпоры ложатся в гнезда лаковые!