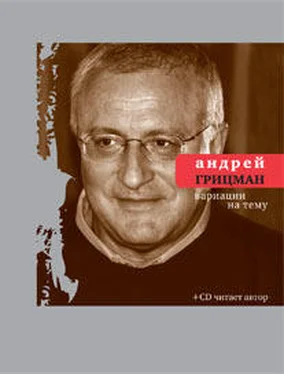Тот лист упал, и всё землёй покрыто.
Се осени начало без конца.
За той чертой черты почти размыты
в далёком отражении лица.
Последний клин гусей поверх ограды,
над пригородом тихим на восток.
И говорить нам ни о чём не надо.
Пускай шумит, как в детстве, водосток.
И дождь стеной на сорок три секунды.
Так сквозь молчанье прорывает речь.
И будет ночь, и снова будет утро.
Да что теперь?.. Кому тебя беречь?
Другой разрез – падение ландшафта
на дно не забывающей души:
чернила с молоком, с небесной ватой,
зовущий голос, мерзнущий в глуши.
В тот серый день
в преддверии зимы
мы снова вместе
в северных широтах.
Великое спокойствие луны
над женщиной стоит
и над природой.
Мы счастливы,
как можно иногда
счастливым быть,
и вопреки потоку
пустых событий быта.
Так судьба
счастливой женщине
свои поставит сроки.
Так тайную генетику любви,
слова одной, той бессловесной песни
ты подарила нам. Но что слова
в любви к уже родной,
нам неизвестной жизни?
Я проснулся около трёх и сказал тебе: осень.
Что-то в шуршанье листвы серебрянно стихло.
Русло ручья покрыла зелёная плесень,
и между рам замурованы летние мухи.
В этих краях бесконечных лес – словно море,
дым как дыханье судьбы, а вода из-под крана
чище источника света, но в последнее время
тянет ложиться читать до поры, слишком рано.
По вечерам стало как-то безмерно спокойно
и отдалённо от суеты старосветской.
Только немного по-прежнему медленно больно
от отлетевшей струны в дальнем отзвуке детском.
Мне никогда не дойти до той мертвенной сути,
строки мои застревают под кожей коряво.
Это – с похмелья питьё занавесистым утром,
крепкая вещь, шебутная, но не отрава.
Плыть по течению в осиротевшую осень,
с чайным припасом, но без капусты с брусникой.
Речь обернётся отказом, осколком, порезом,
арникой в давнем лесу, первоптиц вереницей.
Так и войдёт, незаметно, но неумолимо,
яблоком хрустнет с ветвей arbor vitae.
В этих местах купина была неопалима.
Пар из рта замерзал, летя без ответа.
Тени сливаются, извиваются, шепчут, советуют,
исчезают, подмигивают.
Я остаюсь, понемногу вдыхаю, разговариваю с собой,
некого перекрикивать.
Есть два кота, два компьютера, папки,
где дремлют семнадцать стихов, восемь писем.
Тени не знают, не слышат, не внемлют.
Может быть, не было слов, только выкрики,
только выжимки, только ужимки,
пожимания рук в одно касание.
Всё меняется на таком расстоянии – в восемь часов,
в тридцать лет не докричишься, не дозовёшься
в таком состоянии.
Прощаясь с тенями, я оставляю на выходе:
почётную грамоту, путёвку, курсовку, единый билет,
билет на ёлку, пропуск на кухни,
где на едином выдохе все ваши рифмы, смешки,
подхихиванья и утюгообразный креповый гроб.
Тихо на острове: всё зарастает тихими травами
цветами, звёздами. Только порой заявляются гости,
милые тени из тихого хвороста, забытые тени,
Тени, гости ли.
Давай ещё по одному хинкали
и «Русского стандарта» хлопнем,
cациви, лобио и пхали.
Вздохнём, закусим и обмякнем.
Мы обмакнём лаваш в ткемали,
потом закажем хачапури.
А «Алазанскую долину»
в Москву давно не завозили.
Так насолили им грузины,
что нет в меню «Кинзмараули».
Я помню тех друзей в Сухуми —
разъехались? Ну а другие
лежат в почётном карауле,
как на базаре дольки дыни.
Давай ещё копытцев с хреном
или телятинки с кинзою.
Мы животворные коренья храним
на время золотое.
Не ритуал чревоугодья —
побег от пыли тошнотворной.
Мы помолчим о нашей боли
в потоке речи разговорной.
Сидим напротив, друг на друга
глядим набычившись, два вепря.
Такие вот навзрыд коллеги,
такие вот навзлёт калеки.
Сидим как древние евреи,
опознанные имяреки.
Глаза слезятся. Хмарь над центром.
Мне в Шереметьево-второе.
Пора, мой друг!
Вернись в Сорренто.
Там будет воздух на второе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу