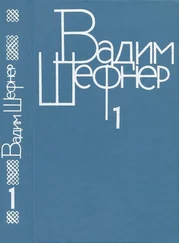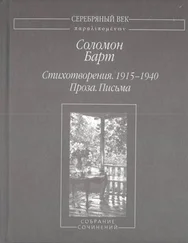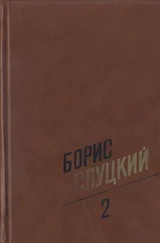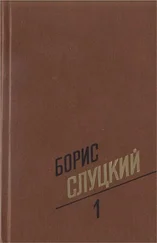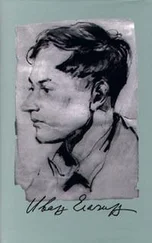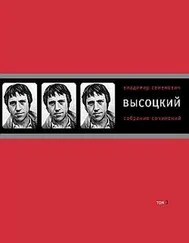В Ростове около какой-то церкви И.В. подобрал на память обломок штукатурки и вспомнил, как в свое время около константинопольской Святой Софии нашел черный камушек сердечком. Меня удивляло, с какой естественной простотой И.В. крестился, входя в храм. Неспешный, с детства привычный жест. Какой-то очень бытовой. Насмешник, скептик — и вдруг! Откуда? Да вот как раз оттуда, из детства. Другая культура. Человек, воспитанный в иной стране, чем я, с иными ценностями, иными традициями. И когда я об это вдруг спотыкалась, для меня это было всегда неожиданно, ведь И.В. держался совершенно просто и ничего не стоило забыть и о его возрасте, вдвое превышающем мой, и о невероятных, с моей точки зрения, объемах всякого рода информации, которой он владел совершенно свободно до последних дней. Не думаю, что еще когда-нибудь мне встретится человек, который знал стольких незаурядных людей. И который имел бы такое всестороннее образование — успев за свою жизнь прочесть в подлинниках все, что следовало прочесть на французском, немецком и английском. О русском и говорить нечего. И который не просто знал лучших художников человечества, но и видел их работы «живьем». И который вообще столько бы видел городов, музеев, замков, соборов и дворцов во всех концах земли. (Некоторые попали в его стихи.) Мечтал побывать в Индии. Не успел. Ему не хватило жизни, чтобы насытиться земными чудесами и красотой. С каким завидным удовольствием жил человек! И это вошло в его стихи. Для меня, например, такое отношение к жизни было откровением.
Я как-то спросила, как ему работалось. Ведь он почти двадцать лет в Америке был профессором русского языка и литературы, уйдя на пенсию в звании заслуженного. Он сказал, что с огромным удовольствием. К лекциям готовиться не надо: «Вы бы стали готовиться к лекции, например, о Пушкине?» Говорил он всегда легко, безо всяких бумажек и от этого совершенно не уставал. А студенты его любили. И даже приглашали на свой мальчишник — единственного из преподавателей.
У Паниных И.В. познакомился с молодым поэтом и заинтересованно, переходя от одного стихотворения к другому, рассказывал ему, что у того хорошо, а что плохо. Вообще во всем, а в поэзии особенно, И.В. искал прежде всего хорошее. И находил. Он считал, что сейчас очень много хороших поэтов. И недоумевал — о каком упадке литературы речь. Но уж если ему приходилось признать, что стихи плохи, он расстраивался, даже возмущался, как будто этот неумелый поэт оскорбил его лично. Мне, конечно, было интересно узнать его мнение об эмигрантских поэтах, которых он знал. О тех, кто ему не нравился, приходилось спрашивать не раз, и он делал вид, что вопроса не слышит. Наконец, уступая моей настойчивости, говорил, например: «Не поэт, а г…». Или: «Поэт, так называемый». Но зато о тех, кого ценил, говорил охотно, с удовольствием декламировал их стихи: Георгия Иванова («Я до сих пор помню, как Иванов это читал: "И Лермонтов выходит на дорогу…"»), Ирину Одоевцеву (поражаясь простоте, разговорности ее манеры), Владимира Смоленского (его «Стансы» каждый раз доводили И.В. почти до слез. «Это и обо мне», – говорил он), Ходасевича (и добавлял, что Адамович зря его недооценивал), Анну Присманову («Аня-Рыбка. Так она подписывалась в письмах ко мне. Рисовала рыбку»). В числе качеств мне в И.В. непонятных (и по сей день) — его отношение к Пушкину. Ни разу ни в ком я не видела столь искреннего восхищения нашим великим поэтом. Когда И.В. говорил о Пушкине, было такое впечатление, что Александр Сергеевич — его ближайший друг, которого он потерял только вчера и до сих пор о нем плачет. То, что даже такой поэт умер, — было для И.В. примером величайшей несправедливости и настоящей утратой, в том числе личной.
Как-то к нам в гости зашли Ведьмины. Муж и жена. Они потом много раз всех нас фотографировали — И.В. любил сниматься. («На память».) Борис Викторович — строитель, фотограф, почти ровесник И.В. — оказался большим любителем и знатоком поэзии. Он читал нам стихи Анатолия Штейгера, и Чиннов был просто поражен: «В Советской России мне читают поэта "парижской ноты"!» И.В. рассказывал, как на его первом поэтическом вечере в Париже, где обсуждалась его книга «Монолог», Лидия Червинская вышла на сцену и сказала: «Тут все говорят о книге Чиннова. Может быть, она того и заслуживает, раз ее так хвалят, но я хочу поговорить о книге Анатолия Штейгера». (Которая как раз тогда тоже вышла, уже после смерти Штейгера.) Я, конечно, спросила, за что Червинская на И.В. окрысилась. Оказывается, она была влюблена в Адамовича. И ей не нравилось, что Адамович так хвалит Чиннова. Кстати, И.В. считал, что ее стихи похвал очень даже заслуживали.
Читать дальше