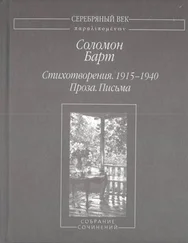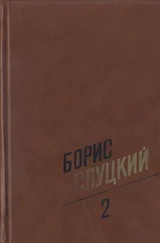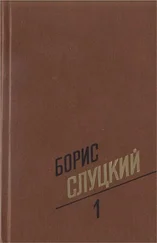У Чиннова находки в сочетании звука и смысла слова — одна из особенностей его поэзии. Вот два звучания слова «легко» (в процитированных выше стихотворениях), дающие совершенно разную эмоциональную окраску. «Легко» — безрадостное, относящееся к «балерине», и «легко» — летящее, в строчках о Фортуне. В первом — произносимом с сожалением: «…ах лехко» — выделяется хрипящее [х] из-за [х] (пуантах) и дребезжащего [ж] (подбежит). И совсем другой, радостный звук во втором «легко» — [о], легкое, как будто приподнимающее, подготовленное напевными [а] в предшествующих словах и множеством [о] в легкомысленном «рококо».
Что это — «сознательно» подобранные слова или «услышанные»? Мастерство или талант? Чиннов называет поэта мастером «золотых изделий из слов и рифм, звучаний и видений». Но бесполезно спрашивать его, булгаковский ли это Мастер или мастер-ремесленник. Кто может ответить на вопрос: «Поэзия — это Божий промысел или людской?» Вейдле в книге вместо ответа приводит четверостишье Чиннова, которого называл Поэтом (с большой буквы):
А что стихи? Обман? Благая весть?
— Дыханье, дуновенье, вдохновенье.
Как легкий ладан, голубая смесь
Благоуханья и благоговенья.
Конечно, Вейдле, как и большинство литераторов-эмигрантов, верил, что поэзия — дар. Владимир Смоленский даже решился эту мысль сформулировать: «Божественность поэзии в том, что лучшие строки даются прекрасно и даром. Задача поэта-мастера ответить этим данным строкам, и ответные должны быть если не равны, то подобны строкам данным. Можно и нужно учиться стихосложению, но невозможно научиться поэзии, которая есть дар» [25] Возрождение. 1954. № 32. С. 141.
.
* * *
В Последней из оставленных нам Чинновым книг – «Авторграфе» (1984) — мастерство поэта проявилось в полную силу. За тридцать лет — «Монолог» был напечатан в 1950 году – поэт далеко ушел по пути поиска новых поэтических форм и приемов, сохранив при этом свою интонацию, делающую его стихи узнаваемыми независимо от их «формы». В «Автографе» особенно заметно, насколько разные у Чиннова стихи. То добродушная насмешка или довольно едкая сатира, то отчаяние Чиннов то балагурит, то грустит. И какое богатство образов! Каждое стихотворение — как микромир — со своей музыкой настроением, драмой, сюжетом. И за каждым — выстраивается целый ряд ассоциаций, впечатлений. Вообще, стихи Чиннова похожи на айсберги — мы ощущаем, угадываем скрытый в глубине огромный опыт пережитого, перечувствованного и передуманного автором, но видна нам лишь искрящаяся вершина.
Зинаида Шаховская писала, что «Автограф» кажется ей лучшей из книг Чиннова: «Хвала поэту, читателя своего удивляющему» [26] Новое русское слово. 1985. 25 марта.
.
Поэт не устал восхищаться чудом жизни — как заразителен в своем восторге щенок, который бежит по краю океана, «виляя счастливым хвостиком. Почти осанна была в блаженстве тоненького лая» — как высоко взлетели эти счастливые звуки. И по-прежнему радуют душу воспоминания – становится светло и «весело в мире явлений», когда вдруг видишь, как «свинка в сиянье луча ест апельсинные корки».
С лирическими стихами в книге соседствуют философские, где слышна горечь скорой утраты. В песочных часах жизни сочтены все песчинки – не хватает всего двух. «Огонек мой совсем на исходе». И кажется, поэт уже что-то решил для себя и почти отстраненно наблюдает — «простой наблюдатель, за уткой, которая в реку влетела, как в небо — душа (только более смело?)». Даже появляется неожиданная для Чиннова тема «свободы выбора»: эти белые таблетки — «добавь еще штук семь — и почти без досвиданий успокоишься совсем». Но все же: «Лучше подольше попробуем здесь оставаться — подобием Божиим, хоть приблизительным…»
Мир природы прекрасен. А люди? Поэт, почти уже чувствуя, как «водицу тусклого Стикса душа переходит вброд», вдруг оглянулся на сообщество «двуногих». На прощанье пытаясь сказать последние, несказанные слова? Да нет — патетика Чиннову совсем не свойственна. Тогда что случилось — почему в стихах у Чиннова становится так многолюдно? То «дачник рыбачит на озере», то «соседи суетливые мои» — «обмениваемся поклонами», то турист из Большого Шакала. Раньше, за неимением лучших слушателей, он «говорил о радостном, о грустном в пещере — сталагмитам и моллюскам». А теперь:
Я говорил глухому перуанцу
На неизвестном, странном языке:
— Вы разучились поклоняться Солнцу,
И ваши храмы — в щебне и песке.
Читать дальше