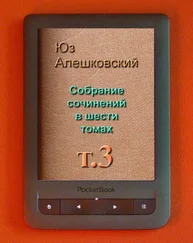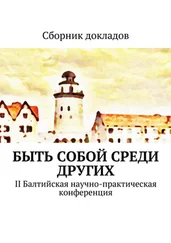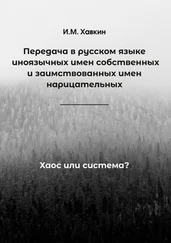…Ему не спалось… Почему?
Быть может, был он чем-то болен.
Быть может, он мечтал о воле,
И воля грезилась ему?
Быть может, думал он с тоскою
О близких, брошенных вдали,
Иль видел смерть перед собою
В снегах чужой ему земли?
Но не о том, не о себе,
Не об утраченной свободе,
Он думал о другой судьбе.
Он думал о своем народе.
Один из тех прямых людей,
Кого касалось все на свете,
По долгу совести своей
Он должен был сейчас ответить,
Не уклонясь ни от чего,
Приняв недоброе наследье,
За все, что было круг его,
Что допустил он, не заметив.
Он отвечал за ложь, за зло,
Искал дорогу в одиночку,
Он был один сегодня ночью,
И это было тяжело.
И это было горем. Да,
То было настоящим горем,
Страшней, чем приговор суда,
Страшней, чем ледяные норы,
Страшней лишений и потерь,
Страшней запоров и решеток.
Он думал… Мысль была теперь
Его подпольною работой.
И всё, что знал и что умел,
Он отдавал ей. Был далеко
От грубых нар, от сонных тел,
От занесенных снегом окон.
И все ж сознание его
Блуждало где-то за оградой,
Не упускало ничего
Изо всего, что было рядом.
В двух вариантах, расщеплен
Был мир, который видел он,
Они друг друга исключали
Существованием своим,
И всё же каждый был реален,
Вставал из мрака перед ним.
И, подчиненное уму,
Его раздвоенное зренье
Свести старалось к одному
Их враждовавшие явленья,
Еще не ясные ему.
Найти стараясь нужный фокус,
Чтоб наконец увидеть в нем,
В житейской сложности глубокой
Их синтез — правду целиком.
Короче — был он погружен
В немое строгое сличенье
Того, что знал на воле он
И что увидел в заключенье.
Он знал: бумага деклараций
Лгала в истории не раз,
Но факты? — то, что видел глаз?
Что осязали наши пальцы?
Но гибель класса тунеядцев?
Он знал: повсюду и везде,
В советских городах и селах
Теперь у власти были те,
Что сами знали труд и голод.
Для всех открылись двери школ,
Не стало больше безработных,
Доходы шли в один котел,
В один бюджет международный.
Соха — в музее под стеклом
Напоминала о былом.
И, строясь в темпах небывалых,
Кладя кирпич за кирпичом,
Страна лицо свое меняла.
Уже промышленность России
Большой и новой силой стала.
И прежний лапотный мужик
Ко всякой технике привык.
В работу, в план, в постройку, в дело
Все средства были включены.
Страна спешила, тень войны
Над нею медленно вставала.
И не была ль причина в том?
Страна боялась и спешила,
А людям трудно, трудно было
Одолевать такой подъем.
И к отстающим с каждым днем
Все больше применялась сила.
Сильнее побуждений всех
Страх заползал в сознанье власти,
Страх отставанья, несогласья,
Страх неожиданных помех,
А наконец и страх народа.
Отсюда поиски врагов,
И выше всех его валов
Волна тридцать седьмого года.
Где был один полувиновный
В десятке арестов уловлен,
А настоящий враг успел
Спастись за ширмой дюжих дел.
…А может быть, для поворотов,
Каких еще не угадать,
Сметал с пути могучий кто-то
Тех, кто бы мог ему мешать?
Таких, как он… но чем же мог,
Чему бы он хотел мешать?!
Какую новую дорогу
Могло правительство избрать?
Чтоб отвести глаза народу
И объяснить такой разгром,
«Герой» тридцать седьмого года —
Ежов — объявлен был врагом,
Не раньше, впрочем, чем успел он
Свою задачу довершить…
И как же партия посмела
Всё это молча допустить!
Или, чтоб стать непогрешимым,
Кой-кто надумал объявить
Изъяны все — работой мнимых
Врагов, пытавшихся вредить?!
Опять не то… не может быть…
Иль зарубежная разведка
Огромный сделала подкоп
И била густо, точно, метко
Своих врагов, в их доме, в лоб?!
А впрочем, так или иначе,
Но заключенные у тачек
Народный выполняли план,
И никакой не мог туман
Отнять у фактов их значенье
Для хитроумных объяснений.
Матвей всегда был слишком прям
И никаким профессорам
Не разрешил бы утверждать,
Что можно строить коммунизм
Ценою рабства потайного
И что подобная основа
Создаст бесклассовую жизнь.
Упрямо, молча пробирался
Он меж запутанных дорог,
И гнев его не распылялся,
А собран был в один комок,
Жил рядом с твердым убежденьем,
Что все равно его народ
К той жизни, что поставил ЛЕНИН,
Дорогу верную найдет.