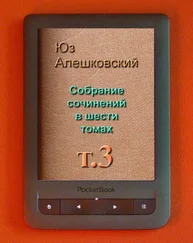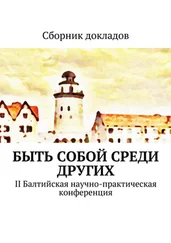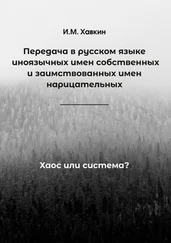Мой дорогой, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц —
совсем не легкий путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснешь —
и вновь по снегу зашагаешь,
Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя:
«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнется вдруг
легчайшее сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!
Солдату дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Таежный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге,
ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень —
что ж тебе еще?
Так две недели протекли, и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит —
все ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери,
Берет он браунинг.
Милая душа,
Как ты сильна
под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом еще не все обнять,
Но смерть
над ним крыло уже простерла.
«Стреляй! Стреляй!»
В кого ж теперь стрелять?
«Из горла кровь!»
Да чье же это горло?
А что, когда положат на весы
Всех тех, кто не дожили, не допели?
В тайге ходили, черный камень ели
И с хрипом задыхались, как часы.
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!
И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет
Того, кто обязательно придет.
Много ль девочке нужно? Не много!
Постоять, погрустить у порога,
Посмотреть, как на западе ало
Раскрываются ветки коралла.
Как под небом холодным и чистым
Снег горит золотым аметистом —
И довольно моей парижанке,
Нумерованной каторжанке.
Были яркие стильные туфли,
Износились, и краски потухли,
На колымских сугробах потухли…
Изувечены нежные руки,
Но вот брови — как царские луки,
А под ними, как будто синицы,
Голубые порхают ресницы.
Обернется, посмотрит с улыбкой,
И покажется лагерь ошибкой,
Невозможной фантазией, бредом,
Что одним шизофреникам ведом…
Миру ль новому, древней Голгофе ль
Полюбился ты, девичий профиль?
Эти руки в мозолях кровавых,
Эти люди на мертвых заставах,
Эти бьющиеся в беспорядке
Потемневшего золота прядки?
Но на башне высокой тоскуя,
Отрекаясь, любя и губя,
Каждый вечер я песню такую
Как молитву твержу про себя:
«Вечера здесь полны и богаты,
Облака, как фазаны, горят.
На готических башнях солдаты
Превращаются тоже в закат.
Подожди, он остынет от блеска,
Станет ближе, доступней, ясней
Этот мир молодых перелесков
Возле тихого царства теней!
Все, чем мир молодой и богатый
Окружил человека, любя,
По старинному долгу солдата
Я обязан хранить от тебя.
Ох ты, время, проклятое время,
Деревянный бревенчатый ад!
Скоро ль ногу поставлю я в стремя,
Я повешу на грудь автомат?
Покоряясь иному закону,
Засвищу, закачаюсь в строю…
Не забыть мне проклятую зону,
Эту мертвую память твою;
Эти смертью пропахшие годы,
Эту башню у белых ворот,
Где с улыбкой глядит на разводы
Поджидающий вас пулемет.
Кровь и снег.
И на сбившемся снеге
Труп, согнувшийся в колесо.
Это кто-то убит «при побеге»,
Это просто убили — и всё!
Это дали работу лопатам,
И лопатой простились с одним.
Это я своим долгом проклятым
Дотянулся к страданьям твоим.
Не с того ли моря беспокойны,
Обгорелая бредит земля,
Начинаются глупые войны,
И ругаются три короля.
И столетья уносит в воронку,
И величья проходят, как сны,
Что обидели люди девчонку,
И не будут они прощены!
Только я, став слепым и горбатым,
Отпущу всем уродством своим —
Тех, кто молча стоит с автоматом
Над поруганным детством твоим».