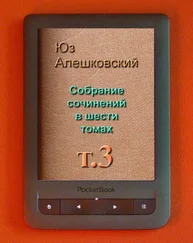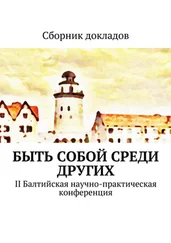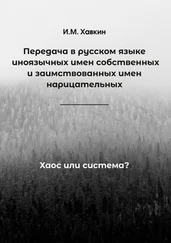Как поэт в печати не выступала.
Когда ночами мучима тоской,
Ища напрасно отдых и покой,
В пережитом ответа я искала:
Что жизнь мою и гибель оправдало?
Когда я видела, что целый свет
Враждебен мне, что мне опоры нет,
Чтоб смертную тоску от сердца отогнать,
Я принималася в уме перебирать
Стихи любимые. Сквозь тьму веков, сквозь дали,
Сердца родные сердцу вести слали,
И отзывалися слова в душе унылой,
Как ласка друга, трепетною силой.
В реке поэзии омывшися душой,
Я снова силу в жизни находила:
У Пушкина гармонии училась,
У Кюхельбекера — высокой и прямой
Гражданской доблести, любви к искусству
И чистой дружбы сладостному чувству.
Веселой радости в безжалостном бою,
Бездонной нежности и мужеству терпенья
Училась у насмешливого Гейне,
Свободе жизнь отдавшего свою.
И Лермонтов, могучий, мрачный гений,
Мне раскрывал весь мир своих мучений.
И вас, учителя людей, я вспоминала,
Ромен Роллан и Франс, Тургенев и Толстой,
В мир ваших мыслей погружась душой,
Я горькую печаль свою позабывала.
И с человечеством вновь через вас родня,
Гнала ночной кошмар и шла навстречу дня.
1936 год. Бутырская тюрьма
Мы шли понуро, медленно, без слов.
Серели в сумерках цепочкой силуэты.
А на небе малиновым рассветом
Окрашивались стайки облаков.
Еще молчали сонные дома,
Был воздух тих и сказочно прозрачен…
Но безнадежно каменно и мрачно
Смотрела Соловецкая тюрьма.
И прежде чем войти в окованную дверь,
Мы все взглянули в радостное небо…
Да, жизнь — непонятый и нерешенный ребус,
Цепь горестных ошибок и потерь.
1937 год. Соловки
Седьмое ноября. Чугунная решетка
На небе голубом обрисовалась четко…
Я в этот день с тобой, моя страна!
Я в этот день с тобой; пока душа полна
Любовью, нежностью, тревогой за тебя —
И в этот день из тьмы, со дна
Мысль первая и первое желанье —
Тебе цвести в красе и ликованье.
Вторая мысль — о вас, любимые мои,
Простите мне отравленные дни.
Я не одна.
Вам я желаю силы и терпенья
И гордого и мудрого смиренья…
А для себя — свободы и покоя.
Идти бескрайнею дорогой полевою
Под небом синим, солнцем золотым,
В ночной туман, передрассветный дым…
Быть снова дочерью страны родной своей,
В труде и радости быть вместе с ней.
И может быть, хотя в конце пути
Тебя, мой бедный, дальний друг, найти.
Соловки
Они летят. Они летят на юг.
А я осталась, подстреленная птица, на земле.
Я вижу молодость свою
В застывшей мгле.
На синем юге, на далеком юге
Купаются в живительном огне
Мои крылатые подруги.
Какой холодный снег…
1939 год. Колыма
Елена Львовна Владимирова (1902–1962). Журналистка.
Арестована в 1937 году. До 1955 года отбывала срок на Колыме. В 1944 году за участие в организации группы из партийцев и комсомольцев, составление программного политического документа, критикующего сталинскую политику с позиций ленинизма, и писание стихов была приговорена к расстрелу, замененному двадцатью пятью годами каторжных работ.
«Мы шли этапом. И не раз…»
Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув: «Стой!»,
садиться наземь, в снег и в грязь,
приказывал конвой.
И, равнодушны и немы,
как бессловесный скот,
на корточках сидели мы
до выкрика: «Вперед!»
Что пересылок нам пройти
пришлось за этот срок!
А люди новые в пути
вливались в наш поток.
И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять.
И хоть он тоже знал устав,
в пути зачтенный нам,
стоял он, будто не слыхав,
все так же прост и прям.
Спокоен, прям и очень прост,
среди склоненных всех,
стоял мужчина в полный рост,
над нами глядя вверх.
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись! — он крикнул. — Слышишь, ты!
Садись!» — Но тот не сел.
Так было тихо, что слыхать
могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул:
«Встать! Колонна, марш вперед».
И мы опять месили грязь,
Не ведая куда,
кто с облегчением смеясь,
кто бледный от стыда.
По лагерям — куда кого —
нас растолкали врозь,
и даже имени его
узнать мне не пришлось.
Но мне, высокий и прямой,
запомнился навек
над нашей согнутой спиной
стоящий человек.
Читать дальше