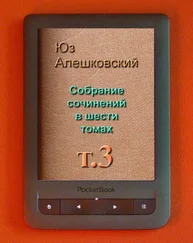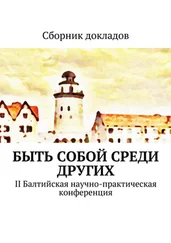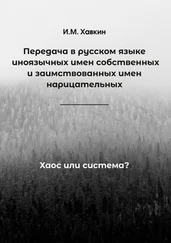Почему же так ночь страшна
И откуда беда явилась?
Как дитё на руках колдуна,
В черных лапах душа забилась.
Кто созвал их? Кого только нет!
Бестелесных, бескостных, бескрылых…
Или он — голубой твой свет
Над могилами взвил и взмыл их?
И пошла и пошла кутерьма
По дворцам, кабакам и залам.
За поэтом не Муза, а Тьма,
Не с лицом, а с одним оскалом.
И поет она ртом без губ,
И поет так, что сердце щемит…
Не гляжу, не хочу, не могу…
Только б слушать и плакать со всеми.
И проходят в слезах и в цветах
Тени близких, любимых и милых,
И встает та, что с детства свята,
Та, что в горести сердце прямила.
Хоры ангелов входят в твой сад,
Божьи солнца с тобою играют,
И весь мир оглянулся назад
К твоему, в белых яблоках, раю.
Пой же, пой… Он и пел бы еще,
Да сведенные губы немеют.
Видишь, черный за левым плечом
Сзади пальцами меряет шею.
И в гостинице «Англетер»,
Меж лакеев, маркеров с киями,
Как сквозь строй модных денди и стерв,
Русский мальчик бредет к своей яме.
Среди других там был монах,
Совсем в рембрандтовских тонах.
От бороды, волос и рта
Сплошная черная черта.
Он ничего не ел, не пил.
«Ваш суп Антихрист окропил», —
Он говорил,
И шел библейский гул
От раздвигаемых им скул.
Вошли. «Который здесь Кудлай?» —
«Чего молчишь?» —
«А ну слезай!!»
И шепот шел среди людей:
«Сейчас возьмут его в кандей».
… … … … … … … … … … … … … … …
Мы все как были обмерли,
Когда его в барак ввели.
Бледней, чем самый белый мел,
Кругом обритый, как яйцо,
Чужое, не его лицо.
Я замер. Я смотреть не смел.
Он тоже не смотрел на нас.
Сначала сбросил вниз матрас,
Потом, упав на доски ниц,
Стал трогать впадины глазниц,
Морщины рта, провалы щек.
Казалось, он хотел еще
Вернуть назад привычный лик,
О, бедный плачущий старик,
Людьми охамленный Самсон!!!
… … … … … … … … … … … … … … …
В ту ночь я потерял мой сон.
Наш барак — «слабосиловка»
Кем был ты раньше, не все ль равно!
Здесь всем нам крышка.
Куда ни взглянешь, везде одно —
Забор и вышка.
Однообразней не повторишь,
Как друг за дружкой
Уходят скаты барачных крыш
Под «финской стружкой».
Проснулся лагерь. Пробил «подъем»,
Плещись у крана,
А сзади слышно: «Забьем, забьем»,
Иль: «Добре рано».
Пришел с поверки, на койку сел.
Кричат: «По новой».
А там, как белка в колесе,
Маршрут к столовой.
Воды хватает. Съешь миски три,
А после пухни.
Посылку маешь? — Обед вари
В китайской кухне.
Тоска барака. Куда пойти?
Бульвар из прутий.
И липки гнутся, и пыль летит,
И ветер крутит.
Прочти газетку в КаВеЧе,
Помойся в бане,
Глядишь, а день и протече,
Другой настанет.
Так жизнь мелькает (подъем — отбой)
Людских отребий.
Зачем досталось и нам с тобой
Делить их жребий?
И не минует нас. И будет и придет
День неизбежный, час зловещий.
Фамилии прочтут, и голос проорет:
«Товарищи, сдавайте вещи».
Чуть утро вспухшее, от плеч роняя мрак,
Кругом означится чертой у небосклона,
Как мы спешим толпой, покинувши барак,
Туда, где строится колонна.
С другими в ряд… Пошли. Назад глядеть нельзя.
Охрана по бокам, и путь один — к воротам.
Скажи же, сердце, мне. Что ты велело взять?
Что в вещевой мешок мне положило? Что там?
«Моет пол ночной дневальный…»
Моет пол ночной дневальный. Все затихло. Спит больница.
«Если б мне уснуть, — зову я. — Сон, больного оживи».
Наконец я засыпаю. Я заснул, и вот мне снится:
В двери входит император, весь забрызганный в крови.
Он руки моей коснулся и сказал мне в утешенье,
Прежде чем совсем растаять, прежде чем уйти из глаз:
«Я больному — исцеленье, заключенному — спасенье.
Мне молитесь. Я предстатель и молитвенник за вас».
Я проснулся, оглушенный звонкой дробью барабана,
Императорским парадом на Царицыном лугу.
Полосатые шлагбаумы. Волны желтого тумана.
Государева столица в мокром мартовском снегу.
В Петербурге что творится? Что гвардейцы побледнели?
Отчего печальны люди? Отчего на лицах страх?
Отчего Святой Архангел в черной каске и шинели
Сам сегодня стал на стражу, сам сегодня на часах?
Читать дальше