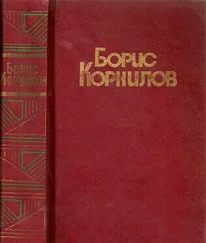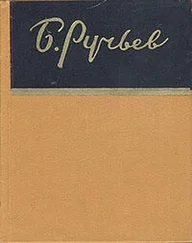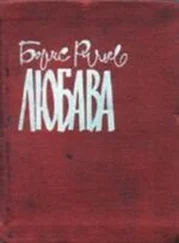Я тебя ценю не за улыбку,
что как солнце в середине дня,
даже шаг, похожий на ошибку,
отдается в сердце у меня.
Зори меркнут, тучи ходят рядом,
как свинец, становится вода...
Может, я ругаюсь злей, чем надо,
слишком хмурю брови иногда.
Кривду всю покуда не порушив,
вечной правде верная сполна,
бьется насмерть и за наши души,
слава наша — Родина-страна.
Может, не додружим, не достроим,
может, завтра, может, через час
выйдем мы с ровесниками строем,
унося винтовки на плечах.
В бой, так в бой, на битву, а не в драку,
жизнью став на самом берегу,
как шагнем мы в первую атаку,
в первый раз ударим по врагу?..
Если же отступишь перед тучей,
по руке ударишь в черный срок
и уйдешь, ничейный и колючий,
перепутьями чужих дорог,-
на минуту камнем станет нежность,
ты иди, не думай обо мне...
Встречу я тебя, товарищ, тем же,
чем врага встречают на войне.
И тогда-то — сердцем, а не речью
всей России в мировом бою
за твою походку я отвечу
так же, как отвечу за свою.
А покамест друг у друга
ты в долгу и я в долгу.
Если в жизни станет туго,
чем захочешь — помогу.
Если я скажу сурово,
вдруг обижу невзначай,
ты найди суровей слово,
той же дружбой отвечай.
А сегодня утром ясным
по уставу, в свой черед,
выступаем с флагом красным
на великий фронт работ.
Сердце просится наружу,
не толчок дает — скачок.
Вместе — служба, вместе — дружба
и матерый табачок.
1932
...и заявлению
о вступлении в ряды ВЛКСМ
Когда зачитают анкету до края,
я встану спокойно у всех на виду,
ничем не хвалясь, ничего не скрывая,
по-честному речь о себе поведу.
Моя биография вписана просто —
в листочек анкеты, в четыре угла,
но я расскажу про такие вопросы,
которых анкета учесть не могла.
О годе рожденья вопрос чуть заметен,
а он поднимает из сердца слова...
Какое рожденье отметить в анкете,
когда на веку их случается два...
Это было еще в тридцатом.
Поутру, покинув вокзал,
парнем серым и простоватым
я впервые в артель попал.
Взял старшой меня, не торгуясь
(сам-то кругленький, будто еж),
и в работу запряг такую,
что не охнешь и не вздохнешь.
Знал я мало, умел немного.
Если ж спросишь о чем таком,
он тебе отвечает строго,
будто по уху — матюком.
Так трудился — неделю, месяц,
может, с толком, а может, в брак,
позабыл, как поются песни,
научился курить табак.
Но за месяц кассир угрюмый
мне «два ста» рублей отсчитал...
Понимаете, эта сумма
для моих земляков — мечта!
...Только раз, после вьюжной смены,
я на митинг вхожу в тепляк,
вижу — наш-то старшой со сцены,
как оратор, толкует так:
мол, расценки, сказать по правде,
обирают рабочий люд,
дескать, здесь нам бумажки платят,
а в Кузнецке и спирт дают.
Мы, мол, тоже не прочь погреться
да податься в Сибирь отсель,
дескать, я говорю от сердца,
за свою говорю артель...
Тут и кончились разом прятки, —
при народе светлейшим днем,
целых пять земляков из Вятки
мироеда признали в нем.
В шуме, криках, вскипевших штормом,
взявших оборотня в оборот,
ярость бешено сжала горло
и рванула меня вперед.
...Видел я только эту харю,
оболгавшую всю артель.
Может, я по ней не ударил,
только помню, что бил, как в цель...
Об этом я вспомнил совсем не напрасно,
я знаю, как ярость за сердце берет.
А это ж — та самая ненависть класса,
с которым дышу я и строю завод.
Я знаю завод с котлована, с палатки,
с чуть видимой дымки над каждой трубой,
здесь каждый участок рабочей площадки
сроднился с моей невеликой судьбой.
За мною немало тореных дорожек,
я волей не беден и силой богат,
а в душу как гляну суровей и строже —
не чую покоя и славе не рад.
Живу как живется, пою без разбора,
дружу с кем попало и бью невпопад
и даже к победам, горя от задора,
иду, останавливаясь, наугад.
Завод в котлованах — под бурями начат,
в работе растет он железным, в борьбе...
И это, пожалуй, всё то же и значит,
что я говорю вам сейчас — о себе.
Я верности вечной не выучен клясться,
не скажешь словами, как сердце поет.
Я вижу — вы юность железного класса,
с которой отныне пойду я вперед.
1932
Целый брод обычнейшей волынки.
Отпускная... Станция... И вновь
будет все готово без .запинки,
до прощальных и обычных слов.
Предпоследней отправной заботой
путь к вокзалу и далек, и сух.
Все ребята будут на работе,
попрощаться не с кем, недосуг.
Поезд быстр, гремуч и непокорен,
и когда заря хранит запал,
город отступает за предгорья,
чтобы через месяц выступать.
Двое суток под вагонной крышей...
И выплывет вовремя, наконец,
теплое курганское затишье,
трактовой запевки бубенец.
Степь лежит ровна, как на тетрадке,
по низовьям рыбная вода.
И хорошим окончаньем тракта
сосны закачаются тогда.
Читать дальше