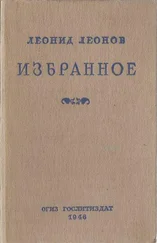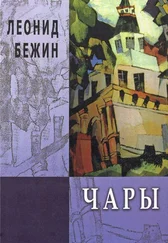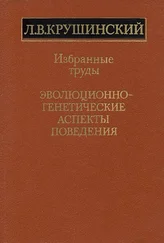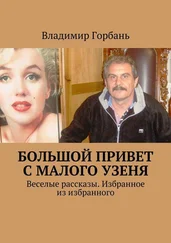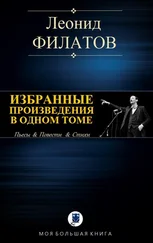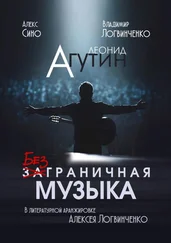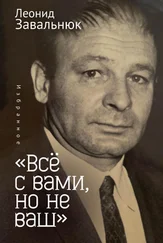Но какие именно слова остаются — кроме абсолютного минимума общеупотребительных? Из “нижнего слоя” поэт берет лишь два-три простейших слова, “сигнализирующих” о плотской стороне бытия: они необходимы Аронзону, потому что и его собственная поэзия, при всей своей возвышенности, вполне конкретна и чувственна, не меньше, чем у его великого соперника; его Прекрасная Дама — одновременно Ева, и у нее должны быть “и пах, и зад”. Гораздо интереснее с “верхним” слоем. Пренебрегая отдохнувшей “под паром” славянщиной, Аронзон спускается на один регистр ниже — и обнаруживает там полный склад романтических поэтизмов, отживших свой век в высокой лирике, потом отслуживших нестроевую в жестоком романсе и годных уже, казалось бы, только для кавказских тостов.
Красавица, богиня, ангел мой,
исток и устье всех моих раздумий,
ты летом мне ручей, ты мне огонь зимой,
я счастлив от того, что я не умер
до той весны, когда моим глазам
предстала ты внезапной красотою.
Я знал тебя блудницей и святою,
любя всё то, что я в тебе узнал.
Всерьез или “понарошку” это говорится? Есть ли в этих словах элемент иронии? (Ведь строки про “блудницу и святую” — это, если на то пошло, прямая цитата из статьи Жданова про Ахматову.) Или — сформулируем вопрос иначе: кто является субъектом речи и насколько он тождествен автору? Ответ должен звучать, видимо, так: если лирический герой стихов, скажем, Олейникова или Пригова — “почти-маска”, то у Аронзона — “почти-лицо”. Текст чуть-чуть закавычен, и именно это, как ни парадоксально, позволяет читателю воспринимать его с полной мерой серьезности и прямоты.
Но что же выступает в качестве “кавычек”?
Мы до сих пор ничего не сказали о синтаксисе Аронзона. В этом отношении он гораздо ближе к Хлебникову (воспринятому и непосредственно, и через Заболоцкого), чем Соснора. Неожиданные синтаксические конструкции, пришедшие из разных, в том числе и архаических, эпох русского языка, сталкивающиеся друг с другом и порождающие неожиданные повороты смысла (но при этом органические, спонтанные, а не порожденные настойчивой авторской волей) — этого в его стихах немало, особенно в стихах середины 1960-х:
Не сю, иную тишину,
как конь, подпрыгивая к Богу,
хочу во всю ее длину
озвучить думами и слогом,
хочу я рано умереть
в надежде: может быть, воскресну,
не целиком, хотя б на треть,
хотя б на день, о день чудесный…
(“Не сю, иную тишину…”, 1966)
О, как осення осень! Как
уходит вспять свою река!
Здесь он стоял. Ему коня
подводят. Он в коня садится
и скачет, тело удлиня…
(“О как осення осень…”, 1968)
Ближе к концу таких оборотов становится меньше, и они существуют в “нейтральном контексте”. Иногда достаточно одной, слишком усложненной, витиеватой фразы, чтобы придать речи нужное ощущение странности. Например, в процитированом выше стихотворении “зеркальная” конструкция (“Я знал тебя блудницей и святою, любя всё то, что я в тебе узнал”) маркирует некую самоиронию, или точнее — легкое удивление тому, что высказываемое чувство и в самом деле существует и может быть выражено, да еще такими обветшалыми, скомпрометированными словами. Удивление собственной поэтике — которое эту поэтику и приводит в действие.
Нечто подобное происходит и в других стихотворениях Аронзона. Поэт, в 1968 году осмеливающийся начать один из своих лирических шедевров словами
Уже в спокойном умиленье
смотрю на то, что я живу.
Пред каждой тварью на колени
я встану в мокрую траву… —
спустя строфу “остраняет” их заверченным оборотом:
Мне все доступны наслажденья,
коль всё, что есть вокруг — они…
Это не wit в британском вкусе: Аронзон не Бродский. Здесь и иронии почти уже нет, есть лишь полуулыбка над “зеркальностью”, над как будто достигнутым, зримым блаженным состоянием мира, над собственной безоглядной нежностью и смелостью — не упраздняющая эту смелость, но позволяющая сохранить связь с контекстом, с реальностью эпохи и языка, связь, которая только и делает смелость реальной.
“Я” Аронзона (в его вершинных стихах) — это лишь нечто, результирующее из безоглядной смелости речи и чувства и из помянутой “полуулыбки”, из легкой закавыченности сказанного. Индивидуальность поэта и житейский “образ автора” — вещи совершенно разные, не имеющие между собой ничего общего; в шестидесятые этот трюизм осознавался немногими, и в этом одна из причин, по которым Аронзон не был вполне оценен при своей короткой жизни.
Читать дальше