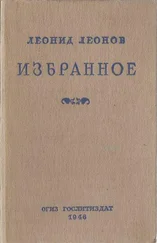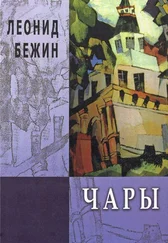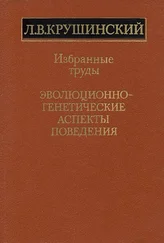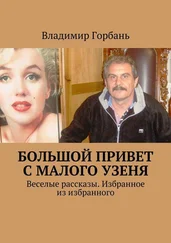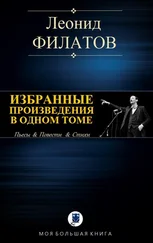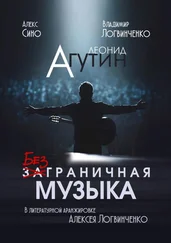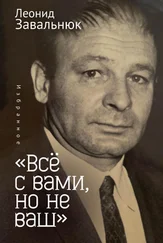Для него куда характерней байронические ноты — которые странно и обветшало смотрелись бы у другого поэта второй половины XX века и которые у него (в лучшей части его творчества) оправданы и осмыслены: и общей, ни на что не похожей культурной ситуацией поколения, и индивидуальными голосовыми и интонационными особенностями. (Есть, правда, у него и стихотворения, в которых эти ноты звучат вполне пародийно). Общеинтеллигентский язык ему не подходит: ведь он не хочет быть “интеллигентом”, — но не подходит и “народный”.
В основе подхода Сосноры к языку лежит воля и страсть к самоутверждению. Неслучайно он, даже при обращении к любимой, использует выражения “моя” или “не моя”. Принадлежность/не принадлежность говорящему оказывается важнее имени и всех прочих примет. (В конвенциональном языке такое обращение, разумеется, невозможно, в третьем же лице выражение употребимо, скажем, в бытовой пролетарской беседе: “Моя никак носки не постирает”). Стремление застолбить языковое пространство выражается и в своеобразном “маньеризме”, настойчивом употреблении одних и тех же “авторских” приемов, маркирующих речь как “сосноровскую”; здесь и характерные синтаксические инверсии, и навязчивая аллитерация:
Осваиваю свой освенцим буквиц,
напрасность неприкаянности. Зла
залог…
(“Риторическая поэма”, 1972)
Но Соснора не просто “метит” язык (эти “метки”, кстати, легче всего воспроизводились и воспроизводятся эпигонами) — он в самом деле подчиняет его своей воле, иногда радикально деформируя. Степень этой деформации в разные годы различна, сильнее всего — в стихах конца 1970-х — начала 1980-х годов. Именно из них и стоит взять пример.
Над Евангельским ранцем
откуют совы свиста
в русском, в райском и в рабском —
в трех синонимах смысла.
(“Семейный портрет”, 1979)
Сказать просто: “русское, райское и рабское — синонимы” — значит произнести сомнительный трюизм, усиленный лежащей на поверхности аллитерацией. Но почему “синонимы смысла”? “Смысловые синонимы” — это было бы пусть тавтологией, но хотя бы грамматически привычной. Но что за “Евангельский ранец”? Что за “совы свиста”? Фактически поэт создает собственный язык, с собственной логикой и собственными, присвоенными словам смыслами, которые нам предстоит разгадывать. Наше воображение, разумеется, может себе представить “сов”, которые не ухают, а свистят, или даже (хотя и с большим трудом) синонимы, которые не непременно являются смысловыми; мы можем ассоциировать “ранец” с заплечным мешком проповедника или даже с крестом. Труднее привыкнуть к постоянным сочетаниям именительного и родительного падежа существительных, заменяющим прилагательные [5] Очень часто и во многих стихотворениях: “Мефистофели флегмы”, а не “флегматичные Мефистофели”, “Лилит столиц” — вместо “столичная Лилит”.
и причастия (как раз пришедшие из церковнославянского). Видимо, прямое обладание чем-либо в этом мире дозволено лишь автору, всем остальным явлениям мира предоставляется довольствоваться косвенным. Даже Богу (в данном случае — нарисованному):
У Бога у губ киноварь и мастика…
(“В зале живописи”, 1976)
Не у “Божьих губ”, даже не у “губ Бога” (что в данном контексте было бы слишком привычно), а “у Бога у губ”. У губ (которые есть) у Бога, но не “Божьи”, а “мои”.
Эта грамматика создает новый, скошенный, остраненный мир со своими не только логическими, но и физическими законами, и делает убедительными сюрреалистические образы: здесь, в Соснории, совы свистят — и что?
Корни своеволия Сосноры, как часто пишут, в русском футуризме… Может быть, формально это и так, но к его присягам на верность Хлебникову стоит подойти с осторожностью. Хлебников был предельно вовлечен в языковую стихию, зависим от ее архаического пласта, от ее атавизмов. У Сосноры, несмотря на его юношеское увлечение “Словом о полку Игореве”, совпадения новоизобретенных грамматических форм с архаическими либо случайны, либо являются результатом эстетского выбора поэта-одиночки. Язык у Сосноры выключен из своей исторической жизни. Именно потому он так пугающе гибок:
…Но ты простишь меня — за двух колен,
Мне поданных рабынью для измен…
(“Когда меня в законы закуют…”, 1979)
Колени, поданные (женщиной мужчине) для измены — уже резкий и сильный образ. Но тут и колени становятся одушевленными, и рабыня меняет окончание и грамматическое склонение, а язык подчиняется этому так послушно, будто и он — “рабынь”. Такое отсутствие сопротивления материала перед авторским напором почти уродливо: в лучших стихотворениях Сосноре удается остановиться на границе этого “почти”. Созданный им мир часто чарует, хотя и болезненным очарованием. Его речь — это обрывочный монолог безумного царя-изгнанника, Лира, требующего, чтобы слова и фразы сами на ходу приспосабливались к его изменчивым ощущениям:
Читать дальше