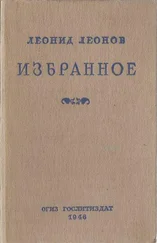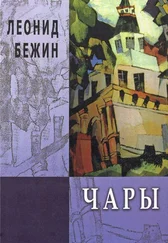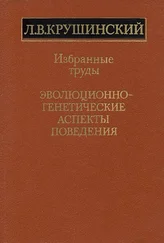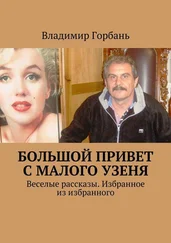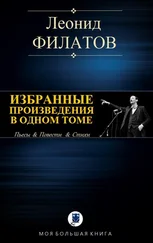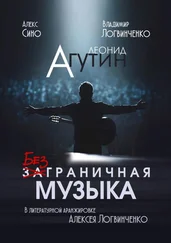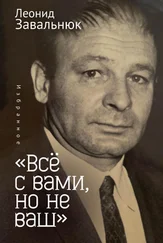Ходит, складной (с кляпом? каникулы?)
и никак самого себя не сложить.
(Как в слезах! Как в глазах!). Стало жить невмоготу…
Но наготу ни лезвия не боится
и что ему чьи-то “нельзя”, но не готов ноготок.
(“Бессмертье в тумане”, 1976)
Бродский — если не конституционный монарх, то принцепс, правящий в огромной империи на основе римского права и традиции. Соснора — деспотичный правитель небольшого королевства, возможно, что и воображаемого. Язык Бродского претендует на общеобязательность, но оставляет некую свободу; язык Сосноры не обязателен ни для кого, но если ты хочешь его понять, ты должен беспрекословно подчиниться его причудливым законам.
ЛЕОНИД АРОНЗОН: ПОЧТИ-ЛИЦО
Леонид Аронзон, один из крупнейших поэтов, дебютировавших между 1956 и 1968 годами, остался в целом чужд глобальным проектам своего поколения, как в массовом, так и в элитарно-андеграундном изводе. Несомненно, он, как и почти всякий писатель, не был чужд суетных мечтаний и сожалений — ему было досадно, что его стихи не печатают (в том единственном смысле, который могли иметь эти слова в то время: не печатают за государственный счет массовыми тиражами), но пафос противостояния социуму был ему чужд. Будучи изначально, на антропологическом уровне, в удивительной для той эпохи степени “несоветским” человеком (в большей мере, чем Бродский), он, по-видимому, не испытывал необходимости специально подчеркивать свою суверенность, дистанцируясь от окружающего.
Некоторые отличия зрелой (с 1962–1963 годов начиная) поэтики Аронзона от поэтики Бродского сразу бросаются в глаза: это богатый (у Бродского)/лаконичный (у Аронзона) словарь; это аронзоновская любовь к рефренам, словесным повторам, кольцевым структурам — в то время как большинство текстов Бродского (“среднего”, но особенно позднего, начиная с середины 1970-х), и повествовательных, и медитативных, движутся “по прямой”, не замыкаясь, не ограничивая себя, не зная о своем завершении.
Несомненно, эти отличия связаны с различиями мироощущения, прежде всего — с разным пониманием времени. Здесь кстати очень выразительная цитата из “Путешествия в Стамбул” Бродского:
“Единицей — основным элементом — орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка — и у нас в этот момент — абстракции, — отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметричности, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубую не(анти)дидактичность. Его — за счет ритмичности, повторимости — постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность.
Я бы заметил еще, что единица этого орнамента — день — идея дня — включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения. Из чего следует соображение о превосходстве бордюрчика греческой вазы над узором ковра. Из чего следует, что еще неизвестно, кто больший кочевник: тот ли, кто кочует в пространстве, или тот, кто кочует во времени. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой попираемого, сколь бы захватывающей (и буквально тоже) она ни была, все же сильно уступает идее, что все остается позади, ковер и попирающую его стопу — даже свою собственную — включая”.
Более отчетливого гимна линейному (западному) типу времени русская литература не знает. Но это время дорого Бродскому не своей направленностью во вне-временное (в чем на самом деле и заключается смысл и оправдание его линейности), а как процесс непобедимого линейного движения, бесконечного освобождения от себя-прошлого, только потому, “что ощущение времени есть глубоко индивидуалистический опыт”. Опыт отчуждения и расставания. Поэтому сказанное слово для Бродского — окончательно, непоправимо сказано. Поэтому ему надо больше слов. Поэтому он ненавидит тавтологичность (известно, что он не мог простить Блоку строчки “красивая и молодая”).
Для Аронзона же цель противоположна: предельное замедление времени и в идеале — его остановка, мгновенный выход во вневременное, в “рай”. Поэтому и слов должно быть мало; важно наполнить каждое из них максимумом смыслов.
Чем более ячейка, тем крупней
размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,
чем у ловца, посмеющего сметь
гигантскую связать такую сеть,
в которой бы была одна ячейка!
(“Есть между всем молчание. Оно…”)
Читать дальше