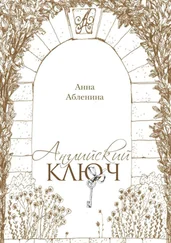Полдень крепко пригревает кочки.
Май раскинул свой цветной товар.
Груша Рыбина в цветном платочке
третий раздувает самовар.
Рыбина — степенная поморка.
Стан ее упруг, высок и прям,
и хрустят на ней в кумачных сборках
сарафаны по воскресным дням.
Это происходит в месте ссылки,
в Ньоноксе. О северный посад,
где в деревьях ледяные вилки,
и где невидаль — фруктовый сад!
Яблок здесь на севере не видно.
Груши все ж бывают иногда.
Грушу не пугает очевидно
ветр и ледовитая вода.
Снежен вечер. В виде привиденья
белая меж тучами луна.
В солеварне белые строенья.
В Белом море влага солона.
Не сладка на Севере погода:
с моря дует ветер, все дрожит,
и на берегу почти полгода
якорь меж сугробами лежит.
Здесь застыл изогнутый, ползущий
ствол, напоминающий змею,
и невзрачный домик, берегущий
героиню бедную мою.
Зиму в ссылке, в неуютном месте,
где был дружен с вьюгою мороз,
провела и Вера Фигнер вместе
с другом — с Александрою Мороз.
Все сшивалось там из рыбьей кожи,
все промерзло хоть один разок:
и возок, на утлый челн похожий,
и челнок, похожий на возок.
Груша Рыбина умна едва ли,
но не ей ли отводить беду?
У нее недаром составляли
имя и фамилия — еду…
Луч заката пригревает кочки.
В них цветной красуется товар.
Груша Рыбина в цветном платочке
пятый раздувает самовар.
Лишь во сне горжусь я силой воли,
красотою — в совершенной мгле.
Я — смешеньем сахара и соли,
странной смесью гордости и боли
отмечаю путь свой на земле.
Вера мне ничем не отвечала:
все в ней из другого вещества.
Более чужой я не встречала.
Но нашла и общее начало
я у чуждого мне существа.
Рассказала я немало в общем,
о герое (разницу кляня).
Пусть теперь об этом — нашем общем —
мой герой расскажет за меня.
Да, я казалась твердою как лед.
Я не ждала спасенья ниоткуда,
живя как в келье годы напролет
с душой воительницы одногрудой.
Сердца холодных женщин не легко
в горячее приходят состоянье,
но мысли их, кипя как молоко,
любое заполняют расстоянье.
Сильна во мне холодная струя,
мой взгляд на мир, поверьте, не умильный.
Так отчего же восторгалась я
когда попала на завод плавильный?
Описывать его я не берусь.
Но обогнув грохочущее что-то,
увидела я вдруг железный брус,
который пламенем был обработан.
Скользил металл на приводном ремне.
Еще пыланье в глыбе не угасло —
и что ж? ее разрезали при мне,
как режут плитку сливочного масла.
Вот мысли каждой амазонки (вслух):
чтоб можно было наше сердце резать,
старайтесь прежде привести наш дух
к составу размягченного железа…
Тут героиня замолчала вдруг,
и снова автор повесть продолжает.
Но не пора ль ее закончить, друг?
кровь стынет, а бумага дорожает.
От героизма тянет холодком:
не влажной стужей низменных кувшинок,
а благородным воздухом вершины,
украшенной единственным цветком.
Изысканный по форме и по цвету,
теплом не избалованный цветок!
Неправы те, кто привлечет к ответу
тебя — за твой высокий холодок.
Не помню — в Нарве или в Риге,
зимою (между школьных лет)
в одной народовольной книге
я видела ее портрет.
Она была на нем подростком,
в косынке, вязанной перстом,
с губою нежною и жесткой,
с уже намеченным крестом.
Деревья крепостного сквера
и длинный двор того жилья,
где столько лет томилась Вера,
осматривала в детстве я.
Мне снился сон: решетки окон,
граниты стен, свинец Невы,
и тумбы пред чугунным блоком,
и муть рассветной синевы.
Крылатый конь парит при этом
недвижно за плечом моим…
Так, на рассвете став поэтом,
осталась до заката им.
Живу я на чужбине четверть века
и научилась в этой стороне
искать в герое просто человека,
геройское оставив в стороне.
Читать дальше