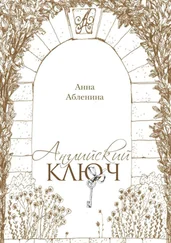Когда счастливой матерью семьи
становится ленивая Мария,
лишь к вечеру, не ранее семи,
плита ее бушует как стихия,
и дети, сев вдоль кухонной скамьи,
кладут на доски рученьки сухие.
Мария варит суп из топора
и моет пол в лазоревом уборе.
Весной она уходит со двора
с высокими зарницами во взоре…
Ее запущенная детвора
сидит в худых штанишках на заборе.
В ее квартире зарево и гам.
Дожди и снег идут в ее квартире…
На страх соседям (и на страх врагам)
она ложится в три или в четыре.
Шлет зайчиков луна к ее ногам:
Она играет, при луне, на лире.
И к ней (сидящей с зайцами у ног
и в то же время — с музыкой у чрева)
приходит муза северных дорог
с большим крылом направо и налево.
Так — некогда — к Марии на порог
могла являться Пресвятая Дева…
Гнездо, Мария, со стараньем вей:
ты от хулы должна оборониться.
Рассветный воздух сделался живей
и месяц начал к западу клониться,
а ты… ты все не спишь. Ты — ночи птица:
сова? едва ль! скорее соловей…
Увы, родная Марфина сестра
непрочная опора для семейства:
она не носит дойного ведра
и в полдень сонные свершает действа…
Пусть днем она не делает добра,
но ночь ее — во власти чародейства.
Днем спит она, сжимая в кулаке
свой первый палец. Странную картину
являет ночь: совместно в котелке
Мария варит и грибы и тину.
Четыре паука на потолке
плетут одну и ту же паутину
Пока пчелоподобная жена
часы полезным отдает работам,
Мария застывает у окна,
подняв лицо к божественным высотам.
Она сродни лунатикам — она
тревожит лиру по нездешним нотам…
Но упрекнуть придется мне ее
за то, что люлька у детей сырая,
что у нее не глажено белье,
что грабли зацветают средь сарая,
что стало мхом вязание ее,
и что игре ее — не видно края,
еще — за обвалившийся плетень,
за все в саду погибшее богатство,
за каждый без труда убитый день,
за вечное с мечтою панибратство,
за праздность, за лирическую лень,
короче — за земное тунеядство.
Мария в узах брачного кольца
кой-как свое свершает бабье дело.
Она готовит душу для конца.
Но будет ли душа сильнее тела,
и свет ее посмертного лица
таким живым, каким она б хотела?..
1. «Апрель. Деревня. Солнце. Почки…»
Апрель. Деревня. Солнце. Почки.
Зеленый двор и корень бурый.
В траве, как желтые комочки,
снуют цыплята. Бродят куры.
Жует корова клок лужайки.
И — как поэзия над прозой —
в столовой — дочь моей хозяйки,
китайской пахнущая розой…
Мы пили чай пасхальным утром
и повседневный сок Китая
(средь чашек с пестрым перламутром)
блистал, как кожа золотая,
как озаренный двор с птенцами,
что в зелени паслись, желтея,
как чайный кубик со столбцами —
со сложным шрифтом грамотея…
Мы говорили о погоде,
о праздниках, о цвете неба,
о предстоящей нам свободе —
и ели пасху вместо хлеба.
Был запах яблок в чайном соке.
Пар над фарфором поднимался.
Наш спор о низком и высоком
как голос мальчика ломался.
Светлеет дом такой порою.
Пестреют над тарелкой яйца.
И только цепь пред конурою
как черная коса китайца.
И все ж китайский мальчик тоже
весною, в солнцепеке края,
смеется на убогом ложе,
бесплатным золотом играя.
2. «Когда-то, как приморский инок…»
Когда-то, как приморский инок,
я — бедности не замечая —
питалась серебром сардинок
и золотом пустого чая.
Обед — на стеклах я читала.
О, ресторанные глубины,
весна Латинского квартала,
цветы и рокот голубинный!..
Вновь вижу я тот вечер майский
(у памяти есть зренья сила)
когда я к прачечной китайской
в узле белье свое носила.
С тряпьем разрозненным и рваным
подкрадывалась я, как заяц,
к лавчонке с запахом нирванным,
где был хозяином китаец.
Из чашки с трещиною стойкой,
с цветной и хрупкою основой,
поили чайною настойкой
его наследника больного.
Качались на сырой веревке
инициалы полотенец.
Под ними, с плешью на головке,
кончался восковой младенец.
Был, как огарок, сух и тонок,
был острым носом схож с вороной,
был в коже старика — ребенок,
чужбинным небом изнуренный.
Читать дальше