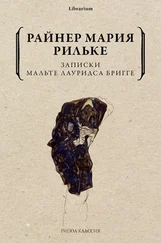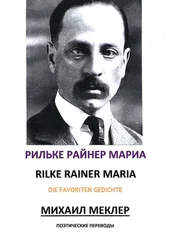Бытие и небытие у Рильке — две формы одного и того же состояния (эта древняя диалектика восходит еще к представлениям ранних греческих философов-досократиков). С этой точки зрения смерть не есть простое угасание, жизнь продолжается и в гибели. Рильке славит земное бытие так патетически и мощно как никогда не славил его раньше. Вместе с тем поэта преследует мысль о краткости и непрочности всего земного. Его новая картина мира отмечена грозными противоречиями, и сам поэт с трудом мирится с этим «яростным знанием» (grimmige Einsicht). Нужны почти сверхчеловеческие силы, говорит поэт в Десятой элегии, чтобы воспеть этот новый, целостный космос:
Dass ich dereinst, am Ausgang der grimmigen Einsicht,
Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln,
Daß von der klar geschlagenen Hämmern des Herzens
keiner versage an weichen, zweifelnden oder
reissenden Saiten. Dass mich mein strömendes Antlitz
gläzender mache, dass das unscheinbare Weinen blühe.. [36].
Открывающаяся поэту трагическая картина мироздания, его величественная и мрачная красота внушают ему трепет и робость. Ангелы — вестники этого грозного космоса — страшны человеку:
… Ибо сама красота —
только вестница страха, уже нестерпимого сердцу.
Ею любуемся мы, ибо надменная нас
пощадила. Каждый ангел нам страшен.
(Перевод Г. Paтгауза) [37].
И тем не менее именно в элегиях Рильке с особой убежденностью и силой утверждает значимость земного мира, человеческого бытия (поэт разумеет, однако, вольное бытие, свободное от гнета цивилизации, в духе тех идеалов, которые были выражены еще в «Часослове»). «Тут-бытие — великолепно!» (Hiersein ist herrlich!) — этот возглас из Седьмой элегии мог бы стоять эпиграфом и к другим стихотворениям цикла. Поэт воспевает ключевые моменты человеческого существования: детство, безграничное приобщение к стихиям природы, любовь, героику и, наконец, смерть как последний рубеж, когда испытываются все ценности жизни.
В реальных жизненных условиях основные человеческие ценности бывает трудно сберечь в первозданной чистоте. Отсюда рождается столь характерный для «Дуинских элегий» романтический культ «юных усопших», ничем себя не запятнавших, светлых и неомраченных существ, овеянных дыханием тайны. Но в пантеоне Рильке властно занимает место и герой — образец высокого деяния (в Шестой элегии Рильке недаром вспоминает могучий библейский миф о связанном Самсоне, обрушившем вражеский храм):
Wunderlich nah ist der Held doch den jugendlich Toten.
Dauern
ficht ihn nicht an. Sein Aufgang ist Dasein; beständig
nimmt er sich fort und tritt ins veränderte Sternbild
seiner steten Gefahr. Dort fänden ihn wenige. Aber,
das uns finster verschweigt, das plötzlich begeisterte
Schicksal
singt ihn hinein in den Sturm seiner aufrauschenden Welt [38].
Рядом с героем — как другой высокий образец человеческого бытия — встают влюбленные, «блаженные друг другом», дарящие друг другу несказанное счастье (Вторая элегия):
Ihr aber, die ihr im Entzücken der anderen
zunehmt, bis er euch überwältigt
aufleht: nicht mehr — ; die ihr unter den Händen
euch reichlicher werdet wie Traubenjahre;
die ihr manchmal vergeht, nur weil der andre
ganz überhand nimmt: euch frag ich nach uns… [39].
В этом мире важных, неистребимых ценностей есть и простые вещи, созданные рукой человека и хранящие отпечаток его существования. Не случайно в Десятой элегии, воздавая хвалу земному бытию, Рильке с такой любовью вспоминает труд римского канатчика и египетского гончара [40]. К этому же миру истинных ценностей, который Рильке полемически противопоставляет буржуазной цивилизации, принадлежат и «вольные звери», и птицы, наделенные древней «душой этруска», наследующие от предков искусство полета.
Рильке не просто воспевает этот извечный мир, не тронутый цивилизацией (так полагать было бы наивно). Он стремится определить значение этих сфер или областей жизни в той общей картине мироздания, которую создает в «Дуинских элегиях». Он раскрывает философский смысл, диалектику этих областей жизни, чувств и понятий (детство, любовь, героизм, первозданная природа, труд). Как ни различны они сами по себе, но для поэта они едины, все принадлежат к миру неподдельных, высших ценностей; в них и заключается весь смысл и вся прелесть земного бытия. Так, детство (по Рильке) — это «чистая событийность» (reiner Vorgang), заранее, как в нераскрывшейся почке, определяющая всю жизнь человека — от начала и до конца. Любовь для Рильке не только ни с чем не сравнимый взлет, но и «грешное божество», темный мятеж «крови», который может грозить бедой:
О, нашей крови Нептун, о смертоносный трезубец.
О, темный ветер дыханья из раковины потаенной [41].
(Перевод В. Топорова)
Таким образом, Рильке видит в любви и темное, подсознательное начало (как он видит и весь трагизм судьбы героя). Невзирая на это, он славит и любовь, и героику, как славит земное существование человека — во всех его антагонизмах, контрастах и угрозах, падениях и взлетах, ничего не приукрашивая и не идеализируя. Такова глубокая лирико-философская диалектика этого замечательного поэтического цикла.
Читать дальше