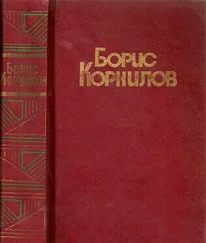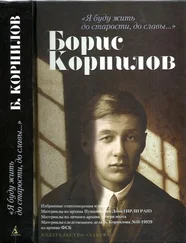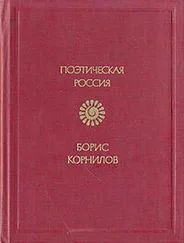Скачут елки хороводом,
ноет пухлая десна,
где-то бросил улей с медом —
не до меду,
не до сна,
не до сладостей медведю,
не до радостей медведю.
* * *
Спи, мальчишка, не реветь,
зубы могут заболеть.
Шел медведь,
стонал медведь,
дятла разыскал медведь.
Это щеголь в птичьем свете,
в красном бархатном берете,
в тонком черном пиджаке,
с червяком в одной руке.
Нос у дятла весь точеный,
лакированный,
кривой,
мыт водою кипяченой,
свежей высушен травой.
Дятел знает очень много,
он медведю сесть велит,
дятел спрашивает строго:
— Что у вас, медведь, болит?
Зубы?
Где? —
С таким вопросом
он глядит медведю в рот
и своим огромным носом
у медведя зуб берет.
Приналег
и сразу грубо,
с маху выдернул его…
Что медведь — медведь без зуба?
Он без зуба ничего.
Не дерись
и не кусайся,
бойся каждого зверька,
бойся волка,
бойся зайца,
бойся хмурого хорька.
Скучно —
в пасти пустота,
разыскал медведь крота.
Подошел к медведю крот,
поглядел медведю в рот,
а во рту медвежьем душно,
зуб не вырос молодой —
крот сказал медведю: нужно
зуб поставить золотой.
Спи, мальчишка, надо спать,
в темноте медведь опасен,
он на всё теперь согласен,
только б золото достать.
Крот сказал ему: покуда
подождите, милый мой,
я вам золота полпуда
накопаю под землей.
И уходит крот горбатый,
и в полях до темноты
роют землю, как лопатой,
ищут золото кроты.
Ночью где-то в огородах
откопали самородок.
Спи, мальчишка, не реветь,
ходит радостный медведь,
щеголяет зубом свежим,
пляшет Мишка молодой,
и горит во рту медвежьем
зуб веселый золотой.
Всё синее, всё темнее
над землей ночная тень.
Стал медведь теперь умнее,
чистит зубы каждый день,
много меду не ворует,
ходит пухлый и не злой
и сосновой пломбирует
зубы белые смолой.
Спи, мальчишка, не реветь,
засыпает наш медведь,
спят березы,
толстый крот
спать приходит в огород.
Рыба сонная плеснула,
дятлы вымыли носы
и заснули.
Все заснуло —
только тикают часы…
1934
Рябины пламенные грозди,
и ветра голубого вой,
и небо в золотой коросте
над неприкрытой головой.
И ничего —
ни зла, ни грусти.
Я в мире темном и пустом,
лишь хрустнут под ногою грузди,
чуть-чуть прикрытые листом.
Здесь всё рассудку незнакомо,
здесь делай всё — хоть не дыши,
здесь ни завета,
ни закона,
ни заповеди,
ни души.
Сюда как бы всего к истоку,
здесь пухлым елкам нет числа.
Как много их…
Но тут же сбоку
еще одна произросла,
еще младенец двухнедельный,
он по колено в землю врыт,
уже с иголочки,
нательной
зеленой шубкою покрыт.
Так и течет, шумя плечами,
пошатываясь,
ну, живи,
расти, не думая ночами
о гибели и о любви,
что где-то смерть,
кого-то гонят,
что слезы льются в тишине
и кто-то на воде не тонет
и не сгорает на огне.
Живи —
и не горюй,
не сетуй,
а я подумаю в пути:
быть может, легче жизни этой
мне, дорогая, не найти.
А я пророс огнем и злобой,
посыпан пеплом и золой, —
широколобый,
низколобый,
набитый песней и хулой.
Ходил на праздник я престольный,
гармонь надев через плечо,
с такою песней непристойной,
что богу было горячо.
Меня ни разу не встречали
заботой друга и жены —
так без тоски и без печали
уйду из этой тишины.
Уйду из этой жизни прошлой,
веселой злобы не тая, —
и в землю втоптана подошвой —
как елка — молодость моя.
1934
Мне не выдумать вот такого,
и слова у меня просты —
я родился в деревне Дьяково,
от Семенова — полверсты.
Я в губернии Нижегородской
в житие молодое попал,
земляной покрытый коростой,
золотую картошку копал.
Я вот этими вот руками
землю рыл
и навоз носил,
и по Керженцу
и по Каме
я осоку-траву косил.
На твое, земля,
на здоровье,
теплым жиром, земля, дыши,
получай лепешки коровьи,
лошадиные голяши.
Чтобы труд не пропал впустую,
чтобы радость была жива —
надо вырастить рожь густую,
поле выполоть раза два.
Черноземное поле на озимь
всё засеять,
заборонить,
сеять — лишнего зернышка наземь
понапрасну не заронить.
Так на этом огромном свете
прорастала моя судьба,
вся зеленая,
словно эти
подрастающие хлеба.
Я уехал.
Мне письма слали
о картофеле,
об овсе,
о свином золотистом сале, —
как одно эти письма все.
Под одним существуя небом,
я читал, что овсу капут…
Как у вас в Ленинграде с хлебом
и по скольку рублей за пуд?
Год за годом
мне письма слали
о картофеле,
об овсе,
о свином золотистом сале, —
как одно эти письма все.
Под одним существуя небом,
я читал, что в краю таком
мы до нового хлеба
с хлебом,
со свининою,
с молоком,
что битком набито в чулане…
Как у вас в Ленинграде живут?
Нас, конечно, односельчане
все зажиточными зовут.
Наше дело теперь простое —
ожидается урожай,
в гости пить молоко густое
обязательно приезжай…
И порадовался я с ними,
оглядел золотой простор,
и одно громадное имя
повторяю я с этих пор.
Упрекните меня в изъяне,
год от году
мы всё смелей,
все мы гордые,
мы, крестьяне,
дети сельских учителей.
До тебя, моя молодая,
называя тебя родной,
мы дошли,
любя,
голодая,
слезы выплакав все до одной.
Читать дальше