Часы не могут знать, как наше время длится,
И о каких событьях нам молиться.
Нет времени у нас, точнее — время пик.
Не можем мы узнать, который час,
Покуда не поймём, какое время в нас,
И почему оно другое каждый миг.
Нас не устроит тот ответ замысловатый,
Котрый мы прочтем в глазах у статуй:
Живые лишь вопросом задаются,
Кому при жизни лавры достаются,
Но скажут мертвые, какой ценой даются.
Когда мы умираем, что с живыми случается, живут они, иль нет?
Смерть смертным не понять — ни вам, ни мне.
Слова простые от корней идут,
Их суть ясна без лишней трескотни,
В отличье от сентенций пошлых: — Тут,
Мол, надо разобраться в самом деле,
Действительно ль так хороши они,
Иль просто грубы, но достигли цели.
ТОТ, КТО ЛЮБИТ СИЛЬНЕЙ. [133]
На звёзды глядя, понимаешь ты —
Им наплевать на нас с их высоты.
Их безразличью оправданье есть —
И на земле подобного не счесть.
Безумной страсти мы от звёзд хотим?
Но тем же сможем ли ответить им?
И если нет двух равно сильных чувств,
Тем, чья любовь сильнее, быть хочу.
Я поклоняться звездам обречен
Всю жизнь, хотя им это нипочем,
И если в небе взгляд мой их встречал,
Я не скажу, что жутко я скучал.
Когда ж исчезнуть или умереть
Случится звёздам — в пустоту смотреть
Учиться буду, в абсолютный мрак,
Но верю, что не долго будет так.
(Вольный перевод с английского)
Нет, не часы укажут нам,
когда войти во храм.
У нас Безвременье — не Время.
Оно давным-давно
совсем не тем полно.
Ища причины, треснет темя.
Зазря задаст вопрос завзятый,
уставясь в очи римских статуй,
иной сегодняшний творец:
"Чей ныне лавровый венец?" —
подскажет лишь мертвец.
Живой скончается, а что потом?
И вы, и я — умрём, а смерти не поймём.
Сквозь дверь ворвётся будущность к нам в дом,
её загадки, палачи, уставы
и некий красноносый шут-шутом
при королеве порченого нрава.
Мудрец и в темень убедится в том,
что прошлое впускает, как раззява,
вдовицу, вышедшую на потраву
с миссионерским рыкающим ртом.
Мы строим заграждения, страшась.
Таимся вплоть до смерти за задвижкой,
а то поймём, едва наступит ясь,
что в нас переменилась ипостась
и, как с Алисой, невидаль стряслась,
когда из дылды сделалась малышкой.
Я сижу в одном из кабаков
на пятьдесят второй стрит
неуверенный и трусливый,
вспоминая утраченные надежды
подлого десятилетия:
волны гнева и страха
циркулируют по темным
и освещенным сторонам земли,
завладев нашими частными жизнями;
неприличный запах смерти
оскорбляет ночь сентября.
Ученые-эрудиты способные объяснить
из-за чего обезумила культура,
проследив цепь происшествий
от Лютера до наших дней,
обнаружат произошедшее в Линце,
какой великий пример
дает психопатический Бог:
мне и любому известно
чему всех школьников учат —
тем, кому зло причинили,
пусть зло совершат взамен.
Сосланный Фукидид не скрыл
ничего, что можно сообщить
о Демократии,
как поступают диктаторы,
старческий вздор шепелявя
близ безразличной могилы;
анализируя все в своей книге,
уничтожение просвещения,
формирование привычной боли,
неумелое руководство и печаль:
ведал, что нам предстоит это снова.
В этом нейтральном пространстве,
где слепые небоскребы используют
свою абсолютную
высоту для объявления
силы Коллективного Человека,
каждый язык щебечет свое тщетное
конкурентоспособное оправдание:
но кто может жить очень долго
в эйфористической мечте;
из зеркала мира выглядывает
рыло империализма
и международная брехня.
Тела вдоль барной стойки
стерегут свой обычный день:
они не должны выходить,
пусть музыка вечно звучит,
условно все согласились
принимать этот форт
за подобие дома;
забудем о том, что все мы,
как испугавшиеся приближения ночи
дети в знакомом лесу,
которые не были счастливы или послушны.
Вонючую воинственную чушь
несут очень важные персоны,
которая более продумана, чем наше пожелание:
написанное сумасшедшим Нижинским
о Дягилеве
является исповедью чистого сердца;
заблуждение, вошедшее в кость
каждого человека
вопит, что невозможна
всеобщая любовь,
а лишь к одному и только.
Читать дальше


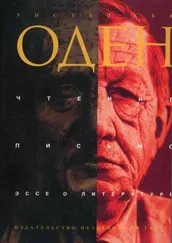


![Сергей Гандлевский - Счастливая ошибка [стихи и эссе о стихах]](/books/407949/sergej-gandlevskij-schastlivaya-oshibka-stihi-i-esse-thumb.webp)




